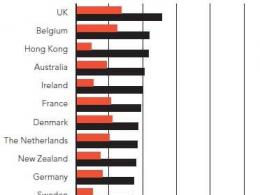"суворову равный" - юденич николай николаевич. Генерал николай николаевич юденич
Николай Николаевич Юденич – прославленный генерал и Человек с большой буквы – именно так характеризуют его личность.
Известный биограф Н.Н. Юденича, его прямой тёзка по фамилии Рутыч, характеризуя личные качества генерала, ссылается на воспоминания своей жены Анны Анатольевны Талызиной. Будучи девочкой, она стала свидетельницей визита героя в женскую школу в Ницце, в которой тогда обучалась. В момент приветствия генерала девочки выстроились в шеренгу и хором прогремели: «Здравия желаем, господин генерал!». Реакция гостя была неожиданной: он так расчувствовался, что, наклонившись за якобы упавшим платком, незаметно прослезился. Таким и был Н.Н.Юденич: стойкий вояка и чуткий человек.
Становление военного характера
Всех званий Николая Николаевича не перечислить: генерал, участник Первой мировой войны, один из предводителей Белого движения, герой Кавказского фронта. Очевидно, что становление такой личности произошло ещё в детстве.
Он родился 18 июля по новому или 30 июля по старому календарю, в 1862 году, в Москве. Происходил из дворянского рода, в котором практически не было военных. Маленький Коля уже в юном возрасте твёрдо решил стать военным, хотя внешность к этому не располагала. Одноклассник А.М. Сараничев описывает друга детства как худенького юношу со светлыми вьющимися волосами.
Николай Николаевич был прилежен в учении. Он с отличием окончил гимназию, Александровское военное училище и Николаевскую военную академию. При поступлении в Академию был жёсткий отбор. Из 1500 заявившихся офицеров поступили 150. Оканчивая Академию в неполные 25 лет, он имел на мундире металлический академический знак – знак отличия.
Военная служба
Н.Н.Юденич нёс службу в Туркестанском военном округе с 1982 года. Там быстро оценили его личные и военные качества. Дальнейшее продвижение было стремительным: в 30 лет стал подполковником, в 1896 году — полковником. Служба не помешала устроить личную жизнь. Женился Николай Николаевич в 40 лет на Александре Николаевне Жемчужниковой.
Первые военные достижения герой показал в течение Первой мировой войны после успешной Эрзурумской операции. В благодарность за победу император Николай II уважительно поклонился генералу.
После революции
В 1917 году Николая Николаевича настигли два события: Февральская революция и кампания на Кавказском фронте. Революция почти обнулила его победы в качестве командующего Кавказским фронтом. Кстати, в отличие от многих генералов-предателей, желавших отречения императора и доносивших тому о всеобщем недовольстве войск, Юденич остался верен Николаю 2 и докладывал брату императора, что кавказская армия полностью поддерживает царя. Несогласие с политикой Временного правительства лишило его поста. В начале 1919 года семья генерала эмигрировала в Финляндию, где он развернул крупную антибольшевистскую деятельность, и был назначен
Р
одился Николай Николаевич 18 июля 1862 года в Москве в семье чиновника - коллежского советника. В возрасте девятнадцати лет он закончил 3-е Александровское военное училище и был направлен для прохождения службы в лейб-гвардии Литовский полк. Затем он служил в различных гарнизонах страны и, получив чин поручика, он был направлен для дальнейшей учебы в Николаевскую Академию Генерального штаба.
Т
ри года продолжалась учеба в академии, и в 1887 году Юденич оканчивает ее по первому разряду с направлением для работы в Генеральном штабе.
П
олучив звание капитана, он был назначен старшим адъютантом штаба 14-го армейского корпуса Варшавского военного округа. В 1892 году Юденич производится в подполковники, а в 1896 году - в полковники. Он был переведен в штаб Туркестанского военного округа, командовал батальоном, был начальником штаба дивизии, а затем, уже в Виленском военном округе 18-м стрелковым полком.
К
огда началась Русско-японская война, его полк, входивший в состав 5-й стрелковой бригады 6-й Восточно-Сибирской дивизии, был переброшен на Дальний Восток. Его полк отличился в сражении под Мукденом, за которое личный состав полка получил знак особого отличия, крепившегося на головном уборе. Сам Юденич был награжден на это сражение золотым оружием с надписью «За храбрость».
В
июне 1905 года он был произведен в чин генерал-майора и назначен командиром 2-й бригады 5-й стрелковой дивизии. Его храбрость и мужество были отмечены орденами Св. Владимира 3-й степени и Св. Станислава 1-й степени с мечами. Во время войны он получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь.
В
1907 году Юденич после лечения снова вернулся в строй и был назначен генерал-квартирмейстером Казанского военного округа.
В
1913 году он становится начальником штаба Кавказского военного округа и в том же году производится в генерал-лейтенанты. На этом посту Николай Николаевич не редко приминал участие в составе военно-дипломатических миссий. Он внимательно наблюдал за событиями в Иране и Турции, а также в Афганистане.
В
начале 1914 года между Россией и Англией появились серьезные разногласия по поводу Ирана, и Юденич получил распоряжение Генштаба подготовить несколько воинских частей для ввода в Иран. После одного из инцидентов, спровоцированных Шустером - американским советником иранского правительства по финансовым вопросам - в северную часть Ирана вступили русские войска. Правительство России потребовало от Ирана отставки американца, угрожая в противном случае военным походом на Тегеран. Иран вынужден был принять ультиматум.
С
началом Первой мировой войны обстановка на Кавказе усложняется. Конфликт с Турцией очень осложнял позиции России, воюющей против Германии и Австро-Венгрии. Но турки решили воспользоваться ситуацией и осуществить свои давно вынашиваемые планы по отторжению от России Кавказа, Крыма и территорий в долинах Волги и Камы, на которых проживало татарское население.
Т
урция присоединилась к коалиции Центрального блока, заключив соглашение с Германией на второй день после объявления войны. Копия германско-турецкого соглашения была направлена Юденичу в начале августа. В конце сентября 1914 года Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для торговых судов стран Антанты. В следующем месяце турецкий флот обстреливал Одессу и другие порты России.
В
ноябре 1914 года страны Антанты официально объявляют Турции войну: 2 ноября - Россия, 5 ноября - Англия, и на следующий день - Франция.
В
ноябре 1914 года на базе Кавказского военного округа была сформирована и развернута Кавказская армия, во главе которой встал генерал-адъютант И.И.Воронцов-Дашков. Начальником штаба армии был назначен генерал-лейтенант Н.Н.Юденич. Русская армия развернулась на территории, протяженностью 720 километров. Основные силы русской армии - 120 батальонов, 127 сотен при 304 орудиях - были развернуты на линии от Батуми до Сарыкамыша. Им противостояла 3-я турецкая армия под командованием Гасана-Изет-паши, состоящая из 130 батальонов, почти 160 эскадронов при 270-300 орудиях и сосредоточенная в районе Эрзурума. Штаб турок возглавлял немецкий генерал фон Шеллендорф. Силы с обеих сторон были примерно равными.
П
ервоочередными задачами штаб Юденича стала разработка плана будущей наступательной операции, а в начале Николай Николаевич на совещании командного состава предложил ограничиться активной обороной и ведением вдоль границы боевой разведки. Им были учтены и горный театр военных действий и погода - обильные зимние снегопады, затрудняющие продвижение войск. Кроме того, чтобы провести наступательную операцию, требовалось сформировать резервы.
Е
го предложение было поддержано. 15 ноября разведывательные отряды 1-го Кавказского корпуса, с ходу заняв приграничные горные рубежи, начали выдвигаться на Эрзурум. На следующий день границу перешли главные силы корпуса, но через два дня он были атакованы частями 9-го и 11-го турецких корпусов, и, опасаясь обхода своего правого фланга, отошли к границе. С приходом в конце ноября суровой зимы боевые действия практически прекратились.
В
начале декабря Юденич получил известие, что командование 3-й турецкой армией принял военный министр Энвер-паша. Решив, что турки переходят к активным наступательным действиям, Юденич приказывает усилить разведку и боевое дежурство, укрепить занимаемые позиции и привести в боевую готовность резервы. Интуиция его не подвела, и 9 декабря 1914 года турецкие войска перешли в наступление. Русскому командованию также стало известно, что перед наступлением Энвер-паша лично объехал войска и обратился к ним с такими словами: «Солдаты, я всех вас посетил. Видел, что и ноги ваши босы и на плечах ваших нет шинелей. Но враг, стоящий напротив вас, боится вас. В скором времени вы будете наступать и вступите на Кавказ. Там вы найдете продовольствие и богатства. Весь мусульманский мир с надеждой смотрит на ваши усилия».
У
же в начале наступления турецкие войска были лишены эффекта внезапности, на который рассчитывали, благодаря хорошо поставленной разведке в русских войсках. Турки безуспешно пытались атаковать и окружить Ольтынский отряд. Во время этих военных действий был такой эпизод, когда две турецкие дивизии приняли друг друга за войска противника и завязали бой между собой, продолжавшийся около шести часов. Потери в обеих составили до двух тысяч человек. В
ходе военных действий Н.Н.Юденич командовал войсками 1-го Кавказского и 2-го Туркестанского корпусов, а затем заменил командующего Воронцова-Дашкова, вызванного в Ставку. Приняв под свое командование всю армию, Юденич также хорошо справился с ее управлением, продолжая громить турецкие войска. Посол Франции в России М.Палеолог писал в то время, что «Кавказская армия русских совершает там каждый день изумительные подвиги».
В
ходе военных действий Н.Н.Юденич командовал войсками 1-го Кавказского и 2-го Туркестанского корпусов, а затем заменил командующего Воронцова-Дашкова, вызванного в Ставку. Приняв под свое командование всю армию, Юденич также хорошо справился с ее управлением, продолжая громить турецкие войска. Посол Франции в России М.Палеолог писал в то время, что «Кавказская армия русских совершает там каждый день изумительные подвиги».
17
-я и 29-я турецкие пехотные дивизии, подошедшие вечером 11 декабря к селу Бардус, без остановки двинулись на Сарыкамыш. Энвер-паша, не зная, что 10-й корпус вместо предусмотренного планом поворота от Ольты на восток увлекся преследованием Ольтынского отряда, направил 32-ю дивизию также на Сарыкамыш. Однако из-за морозов и снежных заносов она не смогла туда дойти и остановилась в Бардусе. Здесь вместе с 28-й пехотной дивизией 9-го корпуса ей пришлось прикрывать пути сообщения, которым угрожал наступавший от села Еникей 18-й Туркестанский стрелковый полк.
Т
ем не менее обходящие фланг русских 9-й и 10-й корпуса вышли на рубеж селений Арсенян, Косор. Одновременно отряд, прорвавшийся из селения Хопа, с ходу занял город Ардаган. 11-й корпус вел бой на линии Маслагат, Арди.
В
это время Сарыкамышский отряд возглавил помощник командующего Кавказской армией генерал А.З.Мышлаевский. Разгадав план противника, он решил отстоять базу Сарыкамыш и направил туда 20 батальонов, 6 сотен и 36 орудий. Наиболее подвижные подразделения должны были подойти к месту назначения 13 декабря. Организация обороны возлагалась на находившегося проездом из Тифлиса полковника Генерального штаба И.С.Букретова. В его распоряжении оказались две дружины ополчения, два эксплуатационных железнодорожных батальона, запасные войска, две роты стрелков 2-го Туркестанского корпуса, два трехдюймовых орудия и 16 станковых пулеметов.
Т
урки, обессиленные маршем в пургу по заваленным снегом дорогам, продвигались медленно. Охранение, высланное по приказу генерала Юденича на санях, на исходе 12 декабря задержало их в 8 км западнее Сарыкамыша. На рассвете следующего дня 17-я и 29-я дивизии противника повели наступление непосредственно на Сарыкамыш. Русские довольно умело оборонялись, используя главным образом пулеметный огонь. Вскоре к ним подошло подкрепление - Сарыкамышский отряд - и селение удалось отстоять. Но противник не оставил надежды овладеть Сарыкамышем, несмотря на большие потери - только 29-я турецкая дивизия в ходе наступления до 50 процентов своего состава. Однако к полудню 15 декабря весь 10-й турецкий корпус сосредоточился у Сарыкамыша. Кольцо окружения, не без помощи местных курдов, почти сомкнулось. Задуманный турецким главнокомандующим план операции, казалось, осуществился. Между тем, благодаря принятым штабом Кавказской армии мерам, силы русских у Сарыкамыша все прибывали. Они имели здесь уже более 22 батальонов, 8 сотен, более 30 орудий, почти 80 пулеметов против 45 турецких батальонов. И в этот день все турецкие атаки были отражены.
К
вечеру 16 декабря в лесу было замечено скопление больших сил турок, а также удалось захватить турка, который вез приказ, адресованный командиру 10-го корпуса. Из приказа русское командование узнало о готовящейся турецким командованием ночной атаке на селение. Она началась около 11 часов вечера. Турки стали теснить русские войска, занимавшие высоту Орлиное гнездо, вокзал и мост на шоссе, так как за ним располагались склады продовольствия и боеприпасов. В начале им сопутствовал успех, и центральная часть селения была захвачена.
Н
о утром следующего дня (17 декабря) серией контратак, проведенных по приказу генерала Юденича, прибывшего на командный пункт, удалось сдержать продвижение турок. В тот же день Николай Николаевич Юденич вступил в командование всей русской армией.
О
ценив обстановку, он принял решение о нанесении одновременного удара главными силами с фронта на Сарыкамыш, Ардаган и Ольты и обходящими отрядами в тыл противника. Успех предполагалось достичь за счет скрытной перегруппировки частей 39-й пехотной дивизии, 1-й и 2-й Кубанских пластунских бригад, а также двух артиллерийских дивизионов, подходивших из Карса. Он понимал, что требовалось тщательное планирование предстоящего наступления, особенно с точки зрения согласования усилий привлекаемых сил и средств, осуществления маскировки на маршрутах выдвижения. Эти вопросы и решались в оставшееся время офицерами штаба и начальниками родов войск и служб.
22
декабря русские внезапно для противника атаковали его. Во время наступления был окружен 9-й турецкий корпус, действовавший у Сарыкамыша, 154-й пехотный полк глубоко вклинился в оборону турок и захватил командира корпуса и всех трех командиров дивизий со штабами. Были взяты в плен остатки разгромленных частей и захвачена их материальная часть. 30-я и 31-я турецкие пехотные дивизии 10-го корпуса, понесшие большие потери, начали поспешно отступать на Бардус. Сибирская казачья бригада, усиленная Ардаганским отрядом, действуя вместе с Ольтынским отрядом, нанесла поражение турецким войскам, занимавшим город Ардаган, захватив до тысячи пленных и много трофеев.
Т
урецкие части предприняли контрудар из района Бардуса во фланг и тыл Сарыкамышского отряда, но он был успешно отражен, и в ночном бою русскими войсками были взяты в плен две тысячи турецких солдат - остатки 32-й дивизии. По приказу Юденича главные силы Сарыкамышского отряда перешли в наступление. Несмотря на ожесточенное сопротивление турецких войск - дело даже доходило до штыковых атак - войска шли вперед, продвигались в глубоком снегу.
Р
усское командование решило обойти левое крыло турецкой армии, закрепившееся на горной позиции к западу от селения Кетек. Приказ на этот нелегкий маневр получил 18-й Туркестанский стрелковый полк с четырьмя горными орудиями. Ему предстояло преодолеть 15 км горной местности. С трудом прокладывая дорогу, нередко перенося на руках тяжелые орудия по частям и боеприпасы, продвигался этот полк. Когда он появился в тылу 11-го турецкого корпуса, противник в панике отступил.
В
ночь на 29 декабря турки начали отход на Ольты. Русские стали преследовать противника, но, пройдя 8 км, были остановлены сильным артиллерийским огнем. Тем не менее 2-я Оренбургская казачья батарея смело развернулась на открытой местности и открыла ответный огонь. Стрелки рассредоточились правее и левее шоссе. Турки, упреждая обход своих флангов, отступили на 3-4 км. Наступившая ночь прекратила сражение.
У
тром атаки возобновились, и вскоре упорство турок было сломлено окончательно. Они бежали через Ольты на Нориман и Ит, по Сивричайской долине, а многие - просто в горы. Были захвачены пленные и орудия.
 |
К
5 января 1915 года русские войска, перейдя государственную границу, вышли на рубеж селений Ит, Арди, Даяр. Сарыкамышская операция, в ходе которой противник потерял более 90 тысяч человек, завершилась победой русских войск. З а умелое руководство войсками Н.Н.Юденич был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и был произведен в генерала от инфантерии. Более тысячи солдат и офицеров Кавказской армии были также представлены к наградам. И так, Кавказская армия перенесла военные действия на территорию Турции. Основные усилия по замыслу генерала Юденича сосредоточивались в полосе действия 4-го Кавказского корпуса - 30 пехотных батальона и 70 эскадронов конницы. Этих сил было не достаточно для широкомасштабных действий, поэтому для продвижения вперед была выработана тактика внезапных налетов небольшими отрядами. И она себя оправдала. Уже к середине июня корпус вышел к Арнису и создал сплошную позицию, примыкавшую к озеру Ван. Центр и правый фланг армии занимали основные перевалы, надежно прикрывали Сарыкамышское, Ольтынское и Батумское направления. |
|
На кавказском фронте. Генерал Н.Н.Юденич на наблюдательном артиллерийском пункте |
С
тремясь перехватить инициативу, турецкое командование начало подтягивать к этому району резервы, и вскоре начальник штаба армии немецкий майор Г.Гузе выехал с группой офицеров на рекогносцировку, чтобы на месте уточнить исходное положение для предстоящего наступления. Об этом немедленно было доложено Юденичу разведчиками.
9
июля турецкая группировка, насчитывавшая более 80 батальонов пехоты и конницы, нанесла удар на Мелязгертском направлении, стремясь прорвать оборону фланговых частей 4-го Кавказского корпуса и перерезать его коммуникации. Русские войска были вынуждены отойти на рубеж севернее Алашкертской долины. К тому же в их тылу действовали диверсионные отряды турок.
Г
енерал Юденич распорядился срочно сформировать сводный отряд, командование которого было поручено генералу Баратову. Отряд включал 24 батальона пехоты, 36 сотен конницы и около 40 орудий. На него возлагалась задача по нанесению удара на левом фланге в тыл туркам. Затем вместе с 4-м Кавказским корпусом отряд должен был окружить противника в районе Каракилис-Алашкерт. Маневр не совсем удался, так как, потеряв пленными до 3 тысяч человек, турки успели уйти из села Каракилис. К 15 сентября 4-й Кавказский корпус занял оборону от перевала Мергемир до Бурнубулах, выставив к югу от Арджиша боевое охранение. В тоже время части 2-го Туркестанского и 1-го Кавказского корпусов перешли в наступление. Но из-за недостатка боеприпасов оно не получило широкого развития, но все-таки сковало значительные силы турок. На Ван-Азербайджанском направлении действовал ударный отряд генерала Чернозубова, который сумел продвинуться на 30-35 км. и занял оборону от Арджиша до южного берега озера Урмия. За успехи в операциях против турецких войск генерал Юденич был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени.
З атем перед Кавказской армией была поставлена важная государственная задача - исключить вступление Ирана и Афганистана в войну против России. Штаб Юденича разрабатывает план операции в Северном Иране, который был полностью одобрен Ставкой. Согласно этому плану создается экспедиционный корпус под командованием генерала Баратова, прекрасно зарекомендовавшего себя в предыдущих операциях. В его состав вошли 3 батальона пехоты, 39 сотен конницы, 5 артиллерийских батарей - всего около 8 тысяч человек при 20 орудиях. Корпус был переброшен по Каспийскому морю и высажен в иранском порту Энзели. После высадки одна его часть была направлена на Тегеран, а другая на Хамадан и Кум - главные опорные пункты германо-турецких вооруженных отрядов. Итогом операции стал разгром диверсионных отрядов, а Хамадан, Кум и некоторые другие пункты были заняты русскими войсками. Таким образом, были сорваны попытки Германии и Турции закрепить свое влияние в Иране и склонить его к войне против России. |
 |
|
На кавказском фронте. Генерал Н.Н.Юденич (по середине) в землянке у командира полка на высоте 2 ½ верст |
Н
ачиная с осени 1915 года войска на Кавказе перешли в активной обороне 1500-километрового рубежа. На наступательные операции ни людей, ни техники, ни боеприпасов не хватало. К тому же изменилась и международная обстановка - в войну на стороне Германии и Турции вступила Болгария.
Б
ыло открыто прямое сообщение между Германией и Турцией, и турецкая армия стала получать большое количество артиллерии. В свою очередь у турецкого командования появилась возможность выбить англо-французские войска Галлиполийского полуострова. Большие потери заставили английское и французское командование оставить плацдарм.
О
свободившиеся войска турецкое командование хотело передать 3-й армии, ведущей борьбу с Кавказской армией Юденича. Узнав об этом, Николай Николаевич предложил на военном совете перейти в общее наступление еще до подхода вражеских подкреплений. Пока к этому времени, согласно данным разведки, русская армия имела примерное равенство с турецкой армией в пехоте, но превосходила противника в три раза по артиллерии и в пять раз по регулярной коннице.
С
илы обеих сторон были развернуты в полосе более 400 км от Черного моря до озера Ван. Турецкие соединения были в основном сосредоточены на Ольтынском и Сарыкамышском направлениях и прикрывали кратчайшие пути к крепости Эрзурум - важнейшей базе снабжения войск, узлу транспортных коммуникаций северных областей Турции. Сама крепость была хорошо защищена горной местностью, что затрудняло проведение там широкомасштабных операций, особенно в зимних условиях.
Т
ем не менее командующий Кавказской армией и его штаб все более склонялись к переходу войск в наступление не позже второй половины января 1916 года. План Эрзурумской операции был разработан - упор делался на внезапность и тщательность подготовки войск.
Н
аступление начала армейская группа прорыва. Эта группа, как и предусматривалось замыслом генерала Юденича, вступила в бой на рассвете 30 декабря. Ее 12 батальонов при 18 орудиях и сотней под командованием генерала Волошина-Петриченко получили задачу овладеть горой Кузу-чан, а затем наступать на селение Шербаган и захватить его. За первые пять дней января 1916 года русские войска захватили гору Кузу-чан, перевал Карачлы, крепость Календер и ряд других пунктов. Бои носили ожесточенный характер. Русские несли значительные потери, истощались резервы. Не в лучшем положении пребывали и турки. Уже к вечеру 1 января русская разведка установила, что почти все части из резерва 3-й турецкой армии были введены в сражение для поддержки первых эшелонов.
5
января Сибирская казачья бригада и 3-й Черноморским казачий полк подошли к Хасан-кала. На следующий день они атаковали турецкий арьергард на ближних подступах к фортам Эрзурумских укреплений.
О
снову Эрзурумского укрепленного района составлял естественный рубеж высотой 2200-2400 м над уровнем моря, отделявший Пассинскую долину от Эрзурумской. На горном хребте располагалось 11 хорошо подготовленных фортов, которые размещались в две линии. Другие подступы к крепости также прикрывались отдельными укреплениями. Протяженность горной оборонительной линии составляла 40 км.
О
владеть Эрзурумом сходу было не возможно - для штурма требовалось большое количество боеприпасов. Особенно остро ощущался недостаток в ружейных патронах. В целом Эрзурумская крепость представляла собой довольно обширную укрепленную позицию, развернутую фронтом на восток с прикрытыми флангами. Ее уязвимым местом были тыловые обводы. Через них город мог блокировать любой противник, проникший на Эрзурумскую равнину.
Ш
таб Кавказской армии, да и сам командующий лично, приступили к детальной проработке плана штурма. Были приняты меры по инженерному оборудованию рубежей, и в конце января проведена рекогносцировка на местности. Все это время отдельные разведывательные отряды осуществляли рейды в расположение неприятеля. Они захватывали отдельные высоты и прочно закреплялись на них. Таким образом, уже к 25 января русским частям удалось продвинуться вперед на 25-30 км.
 |
29
января соединения и части Кавказской армии заняли исходное положение, и в 2 часа дня начался артиллерийский обстрел крепости. Турки сопротивлялись отчаянно, и не один раз отвоевывали занятые русскими частями позиции. День 1 февраля стал переломным в штурме турецких укреплений. Русские овладели последним фортом, и колонна генерала Воробьева начала первой спускаться Эрзурумскую долину. |
|
Герои Эрзерума. По середине - генерал от инфантерии Юденич |
В
период штурма Эрзурума Приморский отряд по приказу генерала Юденича сковал турок на своем направлении. С 5 по 19 февраля отряд овладел оборонительными рубежами по рекам Архаве и Вицесу, чем создали угрозу важному опорному пункту противника - Трапезунду. Успех сопутствовал отряду, и вскоре Трапезунд был взят. Теперь у русского командования появилась возможность заложить в портовом Трапезунде морскую базу снабжения правого крыла Кавказской армии.
Т
урки не смирились с потерей Эрзурума, но все их попытки отбить крепость потерпели неудачу.
Р
езультаты последних наступательных операций Россия, Англия и Франция закрепили секретным соглашением в апреле 1916 года. В нем, в частности, отмечалось, что «...Россия аннексирует области Эрзурума, Трапезунда, Вана и Битлиса до подлежащего определению пункта на побережье Черного моря к западу от Трапезунда. Область Курдистана, расположенная к югу от Вана и Битлиса, между Мушем, Сортом, течением Тигра, Джезире-Ибн-Омаром, линией горных вершин, господствующих над Амадией и областью Мергевера, будет уступлена России…». П
ри разработке плана войсковых операций в предстоящей кампании 1917 года русское командование учитывало ряд важных обстоятельств - обособленность театра военных действий, тяжелое положение в войсках, своеобразие климатических условий. Армия действовала в условиях бездорожья в голодном краю. Только за 1916 год из-за тифа и цинги армия потеряла около 30 тысяч человек. Кроме того следовало учитывать и политическую обстановку в стране. Заметно стали проявляться процессы разложения армии. Юденич предложил в Ставке отвести Кавказскую армию к основным источникам питания, расположив ее от Эрзурума (центр) до границы (правый фланг), но его предложение не было поддержано.
П
ри разработке плана войсковых операций в предстоящей кампании 1917 года русское командование учитывало ряд важных обстоятельств - обособленность театра военных действий, тяжелое положение в войсках, своеобразие климатических условий. Армия действовала в условиях бездорожья в голодном краю. Только за 1916 год из-за тифа и цинги армия потеряла около 30 тысяч человек. Кроме того следовало учитывать и политическую обстановку в стране. Заметно стали проявляться процессы разложения армии. Юденич предложил в Ставке отвести Кавказскую армию к основным источникам питания, расположив ее от Эрзурума (центр) до границы (правый фланг), но его предложение не было поддержано.
Т
огда генерал Юденич счел возможным подготовить к весне 1917 года только две частные наступательные операции. Первую - на Мосульском направлении (7-й Кавказский корпус и сводный корпус генерала Баратова), и вторую - соединениями левого фланга армии. На остальных направлениях предлагалось вести активную оборону.
В
конце января 1917 года по просьбе союзников войска генерала Юденича активизировали свои действия в тылу 6-й турецкой армии. Уже в феврале они перешли в наступление на Багдадском и Пенджвинском направлениях. Благодаря их успешным действиям англичане смогли в конце февраля занять Багдад.
П
осле отречения Николая II и прихода к власти Временного правительства командующим Кавказским фронтом был назначен генерал от инфантерии Н.Н.Юденич (до него фронт возглавлял великий князь Николай Николаевич). Вскоре новому командующему пришлось столкнуться с трудностями. Начались проблемы с обеспечением продовольствием, а англичане отказывались помочь союзнику в этом вопросе. Кроме того, Юденич стал получать многочисленные телеграммы с сообщениями о создании в частях солдатских комитетов.
Ю
денич принимает решение о прекращении с 6 марта наступательных операций и переходе к позиционной обороне. Войска отправлялись в районы лучшего базирования. Но Временное правительство не поддержало его действий, потребовав возобновить наступление. Тогда Юденич отправляет в Ставку подробный доклад о положении в войсках на Кавказском фронте и о возможных перспективах действий подчиненных ему войск. Но это не удовлетворило Ставку, и в начале мая Н.Н.Юденич был снят с поста командующего как «сопротивляющийся указаниям Временного правительства».
Т
ак, из выдающегося полководца Юденич был превращен в изгоя. Быстро забылись его заслуги в разгроме врага в ходе Первой мировой войны. Но военные успехи принесли ему уважение соратников и немалый авторитет среди русской общественности.
В
конце мая Николай Николаевич уезжает в Петроград, а затем перебирается вместе с семьей в Москву.
И
мея много свободного времени, он посетил парад войск Московского гарнизона и случайно услышал выступление Керенского. Затем он зашел в Александровское училище, где встретил однополчан.
П
раздность и бездеятельность очень тяготили его, и в июне он отправляется в Ставку в Могилев, чтобы предложить свои услуги военного специалиста. Но желание ветерана снова послужить Отечеству как никому и не понадобилось.
В
ноябре 1918 года Юденич эмигрировал в Финляндию. Здесь он встретился с генералом Маннергеймом, которого хорошо знал по академии Генерального штаба. Под влиянием бесед с ним у Николая Николаевича возникла идея организации за границей борьбы против Советской власти. В Финляндии было много русских эмигрантов - более 20 тысяч человек. В их число входило и 2,5 тысячи русских офицеров. Из представителей царской высшей бюрократии, промышленников и финансистов, имевших связи и средства, образовался Русский политический комитет явно монархической направленности. Он поддержал идею похода на революционный Петроград и выдвинул генерала Юденича лидером антисоветского движения на Северо-западе. При нем создается так называемое «Политическое совещание».
П
онимая, что имеющимися у него силами справиться с большевиками будет весьма трудно, Юденич в январе 1919 года обратился к Колчаку с предложением объединить военные силы и попросил помощи у союзников по Антанте. Колчак охотно согласился на сотрудничество и даже прислал миллион рублей «на наиболее срочные нужды». Финансово-промышленные русские белоэмигрантские круги также выделили Юденичу 2 миллиона рублей.
Э
то позволило Юденичу приступить к формированию белогвардейской армии на территории Финляндии. Он возлагал большие надежды на Северный корпус, который после разгрома в конце 1918 года под Себежем и Псковом обосновался в Эстонии. Но пока шло формирование армии Юденича, Северный корпус под командованием генерала Родзянко самостоятельно предпринял поход на Петроград и был разгромлен.
С
учетом изменившейся обстановки и по настоянию Колчака 24 мая 1919 года Юденич становится единоличным командующим всеми русскими силами на Северо-западе. Заранее было и сформировано «Северо-западное русское правительство», которое должно было начать действовать сразу после захвата Петрограда.
28
сентября 1919 года армия Юденича перешла в наступление. Она прорвала фронт 7-й советской армии и захватила Ямбург, Красное Село, и Гатчину. Но когда до Петрограда оставалось не более 20 километров, отряды Красной Армии перешли в контрнаступление. Не получив поддержки ни от Финляндии, ни от Эстонии, армия Юденича потерпела поражение, и остатки разбитых дивизий отошли в Эстонию, где и были разоружены.
П
осле поражения Николай Николаевич Юденич окольными путями эмигрировал в Англию. Находясь в эмиграции, он полностью отказался от политической деятельности. Он скончался в Каннах в возрасте семидесяти одного года 5 октября 1933 года.
ЮДЕНИЧ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1862-1933), российский военный и политический деятель, один из руководителей Белого движения. Родился 18 июля 1862 в Москве в дворянской семье; отец - коллежский советник. В 1881 окончил московское Александровское военное училище. Произведен в поручики и направлен в лейб-гвардии Литовский полк. В 1884 поступил в Академию Генерального штаба, которую окончил в 1887 с присвоением чина штабс-капитана гвардии. В 1887-1892 служил на различных штабных и строевых должностях в 14-м армейском корпусе (Варшавский военный округ). В 1892 произведен в подполковники и направлен в Туркестанский военный округ. Назначен начальником штаба Памирского отряда. В 1896 получил чин полковника. В 1902 стал командиром 18-го стрелкового полка 6-й Восточно-Сибирской дивизии. Участвовал в Русско-японской войне; отличился в боях под Сандепу и Мукденом, где личным примером увлек солдат в штыковую атаку. Был ранен. Награжден золотым оружием "За храбрость" и произведен в генерал-майоры (1905). С 1906 - генерал-квартирмейстер Кавказского военного округа. В 1912 произведен в генерал-лейтенанты. В 1912-1914 - начальник штаба Кавказского военного округа. Участник военно-дипломатических переговоров с Ираном и Турцией. С началом Первой мировой войны начальник штаба Кавказской армии. Разработал и осуществил Сарыкамышскую операцию, закончившуюся разгромом 3-й турецкой армии (декабрь 1914). Генерал от инфантерии (1915). С 24 января 1915 командующий Кавказской армией. В октябре-декабре 1915 осуществил успешную Хамаданскую операцию, которая предотвратила вступление Ирана в войну на стороне Германии. В декабре 1915 - феврале 1916 провел блестящую операцию по захвату Эрзерума, за которую награжден орденом Св. Георгия 2 класса. Весной-летом 1916 его войска овладели Трапезундом и заняли всю турецкую Армению. В январе 1917 организовал наступление из Ирана на Месопотамию, что вынудило правительство Османской империи перебросить часть войск на русский фронт, ослабив оборону Багдада, который вскоре был занят англичанами.
После Февральской революции назначен главкомом Кавказской армии и Кавказского фронта и продолжил наступательные действия против турок. Однако трудности со снабжением войск и падение дисциплины, вызванное ростом революционной агитации, заставили его прекратить Месопотамскую операцию и отвести войска. Отказался выполнить приказ Временного правительства о возобновлении наступления и был 7 мая 1917 отстранен от командования. В августе 1917 участвовал в работе Государственного совещания; поддержал Корниловский мятеж.
Октябрьскую революцию встретил враждебно. Перешел на нелегальное положение, став одним из руководителей петроградского антибольшевистского подполья. В ноябре 1918 эмигрировал в Финляндию. "Русский комитет", созданный в Хельсинки в ноябре 1918 и претендовавший на роль российского правительства, провозгласил его в январе 1919 лидером Белого движения на Северо-Западе России, предоставив ему диктаторские полномочия. С согласия регента Финляндии К.Г.Маннергейма Юденич начал формирование вооруженных отрядов. Затем переехал в Эстонию, ставшую центром антибольшевистской борьбы на Северо-Западе. Вступил в тесные отношения с Антантой, прежде всего с Великобританией.
Политическая программа Юденича исходила из идеи воссоздания единой и неделимой России в пределах ее исторической территории; при этом в тактических целях провозглашалась возможность предоставления культурно-национальной автономии и даже государственной самостоятельности малым народам, если они включатся в борьбу с большевиками. Предусматривался созыв Учредительного собрания на основе всеобщего избирательного права для решения вопроса о будущем политическом устройстве России.
В мае-июне 1919 руководил наступлением белых на Петроград (вместе с эстонскими и финскими соединениями). Его войска захватили Гдов (15 мая), Ямбург (17 мая), Псков (25 мая) и подошли к Луге, Ропше и Гатчине. Вдохновленный военными успехами Юденич решил конституировать свою власть: 24 мая в Хельсинки он создал и возглавил правительство Северо-Запада России (Политическое совещание). 10 июня Верховный правитель Колчак официально назначил его главнокомандующим войск в этом регионе, объединенных 19 июня в Северо-Западную армию. Однако начавшееся 21 июня контрнаступление красных привело к поражению отрядов Юденича; ему удалось удержать только нарвско-гдовский плацдарм.
Заключенное им соглашение о совместных действиях с Маннергеймом и Временным правительством Северной области (Архангельск) не было реализовано из-за отказа Колчака и Деникина признать независимость Финляндии (главное условие Маннергейма). Военные неудачи и углубление разногласий Юденича с правительствами прибалтийских республик побудили Антанту переориентироваться на левые круги Белого движения: 11 августа по инициативе английского генерала Ф.Марша Политическое совещание было заменено Правительством Русской Северо-Западной области, в которое вошли кадеты, эсеры и меньшевики и которое подтвердило государственный суверенитет Эстонии. Юденич лишился диктаторских полномочий; его функции были ограничены военными вопросами (военный министр).
В сентябре-октябре 1919 Юденич организовал второй поход на Петроград. 28 сентября Северо-Западная армия вместе с эстонскими войсками прорвала оборону красных; 12 октября пал Ямбург, во второй половине октября были захвачены Луга, Гатчина, Красное село, Детское (Царское) село и Павловск. К середине октября белые вышли на ближайшие подступы к Петрограду (Пулковские высоты). Однако им не удалось перерезать Николаевскую железную дорогу, обеспечивавшую большевиков продовольствием и вооружением. Финны и англичане не оказали наступавшим эффективной помощи. Усилились трения с эстонцами, которых отпугивали великодержавные устремления Юденича и которым большевики пообещали значительные политические уступки. Отсутствие резервов и растянутость фронта позволили Красной Армии 21 октября остановить наступление белых, а 22 октября прорвать их оборону. К концу ноября войска Юденича были прижаты к границе и перешли на эстонскую территорию, где были разоружены и интернированы своими бывшими союзниками. 22 января 1920 Юденич объявил о роспуске Северо-Западной армии. 28 января он был арестован эстонскими властями; освобожден по требованию представителей Антанты и эмигрировал в Англию. Позже перебрался во Францию и обосновался в Ницце. В эмиграции отошел от политической деятельности. Принимал участие в работе русских просветительских организаций; возглавлял Общество ревнителей русской истории. Умер в Каннах 5 октября 1933.
Генерал Юденич остался единственным из командующих армий верным присяге и преданный Государю Императору Николаю II.
В критические февральские дни 1917 года на совещании у Главнокомандующего Кавказской Армией Великого Князя Николая Николаевича, последний обратился с вопросом к генералу Юденичу, может ли он ручаться за верность и преданность Кавказской Армии? Юденич ответил: «Кавказская Армия, безусловно, предана Государю и долгу службы!».
Убежденный монархист, генерал Юденич после Отречения Государя трудно мирился с существованием Временного Правительства, оставаясь на своем посту лишь из любви к своей Кавказской Армии.
Верховным Главнокомандующим Русской Армии Великим Князем Николаем Николаевичем 3 марта 1917 года генерал от инфантерии Н.Н. Юденич был назначен Главнокомандующим Отдельной Кавказской Армии, а после образования Кавказского Фронта 3 апреля назначается его Главнокомандующим. В марте 1917 года по причине плохого снабжения и усталости войск, генерал Юденич прекратил начавшееся наступление на Багдадском и Пенджабском направлениях, и отвёл 1-й и 7-й корпуса в районы базирования. Несмотря на требования Временного Правительства, он отказался возобновить наступление, обусловленное стремлением Временного кабинета министров оказать услугу Великобритании. 5 мая он был отозван с должности Главнокомандующего в Петроград. Официальная формулировка отстранения гласила “за сопротивление указаниям”. На вопрос же военному министру А.Ф. Керенскому о причине своего снятия с должности, генерал Юденич получил ответ: «Вы слишком популярны в своей Армии!». На прощание чины Кавказской Армии преподнесли своему Командующему золотую шашку, осыпанную драгоценными камнями.
***
В Петрограде чета Юденичей поселилась на квартире адмирала Хоменко в то время свободной в доме страхового общества «Россия» на Каменоостровском проспекте.
Посетив Государственный Банк, чтобы снять некоторую сумму денег из своих сбережений, генерал Юденич был восторженно встречен, как герой Русской Армии банковскими служащими, которые посоветовали ему снять все деньги, продать всю недвижимость и держать вырученные средства у себя. Супруги Юденич продали дом в Тифлисе и земли в Кисловодске. Всю ценность совета они поняли уже на чужбине, когда смогли сами нормально устроить быт и помочь многим русским беженцам.
Вскоре генерал Юденич был направлен в казачьи области «для ознакомления с настроением казачества».
Во время Октябрьского переворота Н.Н. Юденич находился в Москве. Вернувшись в Петроград, он предпринял попытку создания тайной офицерской организации из числа офицеров Лейб-Гвардии Семёновского полка, находившегося на службе у большевиков. Инициатива увенчалась успехом, в дальнейшем уже на Петроградском фронте летом 1919 года Семёновский полк в полном составе перешёл от красных на сторону северо-западников.
В двадцатых числах ноября 1918 года используя чужие документы при помощи тайной офицерской организации с супругой Александрой Николаевной, полковником Г.А. Данилевским и согласившимся стать его личным адъютантом, поручиком Н.А. Покотилло (родственником его жены) генерал Юденич прибыл на поезде из Петрограда в Гельсингфорс.
В Финляндии Николай Николаевич заручившись поддержкой Особого комитета по делам русских беженцев, под председательством бывшего премьер-министра А.Ф. Трепова и генерала, барона К.Г. Маннергейма встает во главе Военно-политического центра и военной организации, стремясь к созданию Белого Фронта. Соотечественникам в Финляндии импонировало имя столь заслуженного и известного генерала. Современники вспоминали: «Командование?.. Других генералов с таким большим всероссийским именем вокруг не было». «Из всех генералов, кандидатура которых выдвигалась, как руководителей добровольческой армии в Европейской России, безусловно, на первом месте был Юденич. На всех буквально гипнотическое воздействие оказывала фраза, которую всегда про него говорили: “Генерал, который не знал ни одного поражения” <…>. «Генерал держался очень уверенно, говорил, что если ему не будут мешать, то он большевиков “раскидает”. Если не будут мешать!». «Крепкий как кремень, упрямый даже перед лицом смерти, твердой воли, сильный духом». «Сосредоточение командования в руках общеизвестного полководца и героя Кавказского Фронта считалось наиболее подходящим».
Контр-адмирал В.К. Пилкин после первой встречи в Финляндии с генералом Юденичем 6 января 1919 года запишет в своём дневнике: «Ну, какое же общее впечатление произвёл на меня Юденич? Хорошее и немного странное! Он не совсем обыденный человек, не то чудаковат, не то просто сильно себе на уме, неладно скроен, да крепко сшит, вероятно, очень цельный характер».
Несколько позже он утвердится в своём мнении: «Юденич, несомненно, очень умён. Никто его не обманет. Стоит посмотреть, как он слушает, поглядывая исподлобья на разный люд, являющийся к нему, кто с проектом, кто с докладом. Заметно, что он всех насквозь видит и мало кому верит. Если скажет что-нибудь, то слово его всегда метко и умно, но говорит мало, очень молчалив… При этом он совсем не угрюм и в нём много юмора».
Приказом Адмирала А.В. Колчака от 5 июня 1919 года генерал Юденич назначается Главнокомандующим всеми русскими силами Северо-Западного Фронта и выезжает из Финляндии в Ревель на встречу с Командующим Северным корпусом генералом А.П. Родзянко, откуда вместе с ним на поезде прибывает в Ямбург и посещает фронт.
«23 июня Ямбург встречал Главнокомандующего Северо-Западным Фронтом генерала от инфантерии Юденича. Для встречи на перроне вокзала был выстроен почётный караул от Ямбургской Стрелковой Дружины в составе одной роты под командой штабс-ротмистра Андреевского при оркестре музыки. На правом фланге находились Ямбургский Комендант полковник Бибиков, командир Ямбургской Стрелковой Дружины полковник Столица и другие начальствующие лица. К вокзалу стеклось множество городского населения. В 8 часов 30 минут дня подошёл экстренный поезд. Из вагона вышел генерал Юденич, командир Северного Корпуса генерал-майор Родзянко, Начальник штаба корпуса генерал-майор Крузенштерн, Начальник Военно-Гражданского Управления области полковник Хомутов и чины штаба Главнокомандующего полковник Даниловский и штабс-капитан Покотилло.
Генерал Юденич обратился к почётному караулу с приветствием и благодарил войска Северного Корпуса за их боевую службу и геройскую защиту Отечества. Затем генералом были приняты ординарцы от почётного караула подпоручик Шведов и унтер-офицер Андреев. Андреев - Георгиевский Кавалер удостоился расспросов Главнокомандующего о его боевой жизни и совершенном им подвиге. <…> Обойдя представлявшихся ему чинов Ямбургского Гарнизона и представителей местного населения, генерал пропустил почётный караул церемониальным маршем и вторично благодарил молодцов ямбургцев. <…> Проехав по городу, Главнокомандующий вошёл в храм Божий, где был встречен духовенством крестом и молитвой. Затем был осмотрен военный лазарет. Перед вечером генерал Юденич отбыл на боевой фронт. Проводив знаменитого покорителя Армении, население Ямбурга стало медленно расходиться, обсуждая подробности встречи, весьма довольное тем, что в лице столь известного боевого военачальника, наконец-то стали объединяться разбросанные от Архангельска до Вильны силы Северо-Западного Фронта».
Очевидец вспоминал: «Выра была в верстах 20 к западу (от ст. Волосово – С.З.). Мы увидели, что там стоит тот самый бронепоезд, который захватил капитан Данилов и ещё общевоинский состав и вся платформа полна офицеров. Наш состав прошёл мимо платформы и остановился немного дальше. В центре платформы я увидел гигантского роста генерала, оказавшегося генералом Родзянко, в то время командующего армией. <…> С ним ехали союзные офицеры в чужих формах, вероятно, английских. Много - не меньше 50 – офицеров, которые очевидно составляли штаб <…> и почётную свиту. <…> Поразил меня блеск форм: здесь были и свитские офицеры в замечательных мундирах и казачьи, и морские офицеры и, по-видимому, разных полков, гвардейских и кавалерийских. Все были в парадных мундирах. Посередине стоял почётный караул из 20 солдат высокого роста, одетых в прекрасно подобранные гимнастёрки. Они отлично держали “на караул”, и у них были фуражки с синим околышем с романовскими кокардами. Очень боевой, торжественный и немного даже залихватский вид был у этой роты: до известной степени, гвардейская часть Белой армии. Я на всю жизнь сохранил это последнее яркое видение Императорской армии, мундиров, блеска, солдаты тянулись, унтер-офицеры стояли картинно, отдавая честь и всё было очень торжественно».
26 июня 1919 года генерал Юденич вернулся в Финляндию.
Укоренилось мнение, что якобы генерал Юденич не признавал независимости Финляндии и Эстонии и только и ждал того момента, когда можно будет уничтожить самостоятельность последней.
В действительности, генерал Юденич оказался в весьма сложном положении. Будучи убеждённым монархистом, он был вынужден считаться с непредрешенческой программой армий Белых Фронтов и лозунгом «За единую и неделимую Россию!», с другой стороны для него не являлось секретом недружелюбие правящих кругов Англии за исключением военного министра Уинстона Черчилля.
И, в-третьих, он понимал, что единственной базой для разворачивания русских белых войск может быть лишь территория Финляндии, или Эстонии.
Английский посол в Париже лорд Берти, характеризовав настроения правительственных кругов Англии, ещё 6 декабря 1918 года записал в своем дневнике: «Нет больше России! Она распалась, исчез идол в виде Императора и религии, который связывал разные нации православной верой. Если только нам удастся добиться независимости Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и т.д., и сколько бы их не удалось сфабриковать, то, по-моему, остальное может убираться к черту и вариться в собственном соку!».
Главные союзники генерала Юденича англичане втайне стремились к ослаблению или уничтожению Балтийского флота и не хотели способствовать возрождению сильной и прежней России, видя в ней своего вечного конкурента в геополитике. Чтобы «соблюсти лицо» они не могли полностью отказать в помощи СЗА, но и помощь эта выливалась в полумеры. В Эстонию для СЗА доставлялись морским путём непригодные к стрельбе артиллерийские орудия, старые танки…
А.И. Куприн вспоминал: «Однажды три четверти ёмкости пароходного трюма (восемьдесят мест!) <…> погрузили для отправки в Ревель <…> фехтовальными принадлежностями: замшевыми нагрудниками, перчатками, рапирами и масками».
Великая Княгиня Виктория Фёдоровна ещё в январе 1919 года писала королю Англии Георгу V, называя большевиков «подонками, пытающимися утвердить свою власть террором против человечности и цивилизации». <…> «Я прошу в этом письме помочь уничтожить сам источник, откуда большевицкая зараза распространяется по всему миру. В борьбе за освобождение от тирании от большевиков <…> Петроград остается главным объектом военных операций. Несмотря на это, генерал Юденич, глава русских военных соединений на побережье Финского залива, не смог снарядить свою армию и не получил ответа на свое обращение к союзникам, отправленное в конце декабря. <…> Население Петрограда умирает от голода. И хотя эта армия, которая в настоящее время формируется, географически и, следовательно, стратегически находится в наиболее выгодном положении для нанесения решающего удара, мы не осмеливаемся нанести его без запасов пищи для голодающего населения».
Король Георг V по воспоминаниям Великого Князя Кирилла Владимировича был в весьма двусмысленном положении на тот момент, оказавшись заложником общественного мнения в своей стране, и инстинктивно стремился держаться подальше от беспокойных и неудобных родственников.
Тем не менее, 13 марта 1919 года он направил ей ответное письмо: «Вместе с министрами моего правительства я внимательно изучил все поднятые в Вашем письме вопросы. <…> Мы желаем и намерены послать провиант и снаряжение тем, кто борется с большевиками, и еще до получения Вашего письма, эти намерения уже были в некоторой степени осуществлены. 1 декабря четыре крейсера и шесть эсминцев прибыли в Либаву с грузом оружия, впоследствии частично доставленного в Эстонию, частично переданного правительству Латвии в Либаве. Крейсера также активно участвовали в военных действиях против большевиков. <…> От генерала Юденича никаких просьб в Адмиралтейство не поступало. В декабре, когда он был в Финляндии, в военное министерство было передано обращение с просьбой, помочь, формирующейся новой армии оружием и снаряжением, но через дипломатические каналы никаких просьб не поступало. Однако снаряжение было отправлено, и были приняты меры по ускоренной доставке угля в Эстонию».
Второе письмо Великой Княгини, посланное в июле 1919 года, английскому королю о помощи Северо-Западной Армии осталось без ответа.
Морской русский офицер вспоминал в эмиграции: «Вооружение и одежду получали от англичан, и тут происходили бесконечные задержки и недоразумения. Выглядело так, что англичане не только не торопились, а задерживались со своими обещаниями. <…> Медлительность англичан в исполнении своих обещаний начинала наводить на сомнение – не собираются ли они менять свою политику в отношении советской власти. Ведь для белых это был вопрос жизни и смерти».
Судя по аналитической работе современника, ситуация в Англии складывалась следующим образом: «1. Некоторые английские общественные деятели, в числе их – члены кабинета, вследствие полного незнания России, долго пребывали в убеждении, что Троцкий – это Наполеон русской революции, который направит ее в русло, сделает умеренной и даст возможность Западу заключить с Советской Россией союз против Германии. 2. Ланкаширские фабриканты <…> думали, что большевики, разрушая русскую промышленность, в сущности, очень полезны»[c]. Корреспонденты некоторых английских газет выставляли большевиков идеальным правительством. 3. В английском обществе существовало мнение, что «Россия по воле Троцкого, Радека и Ленина прыгнула из XII века в XXII. <…> 4. За признание большевиков стояли политические противники министерства, пользовавшиеся каждым поводом, чтобы нанести удар министерству».
«Английское правительство было заинтересовано в создании вооруженной силы в Прибалтике, но не русской, и работа по её созданию была энергична и планомерна. Английский генерал Марч, которому вместе с генералом Гофом были даны широкие полномочия в Эстонии правительством Англии, откровенно признался одному шведу: “Русские люди вообще никуда негодные, но если уж выбирать между белыми и красными, то уж, конечно, надо взять красных”. Ему и было поручено бесконтрольно распоряжаться судьбами русских воинов и беженцев».
***
Переговоры о привлечении Финской армии для совместных боевых действий по освобождению Петрограда от диктатуры большевиков велись между генералом Юденичем и генералом Маннергеймом ещё с конца 1918 года. Корень проблемы таился в нежелании признать независимость Финляндии Русским Политическим Совещанием в Париже под руководством бывшего министра иностранных дел Императорской России С.Д. Сазонова.
Регент Финляндии генерал Маннергейм, симпатизируя русской белой борьбе, не взирая на отказ С.Д. Сазонова и адмирала Колчака, продолжил переговоры с генералом Юденичем, обещая придти ему на помощь под Петроградом в случае единоличного заявления генерала Юденича о признании независимости Финляндии и присоединения к ней части карельских земель.
Генерал Юденич, не будучи искушенным политиком, проявил здесь политическую мудрость, признав от собственного имени независимость Финляндии, и заверил барона Маннергейма о своей полной лояльности и вверенных ему войск к её независимости. Началась подготовка к совместному походу на красный Петроград финских и русских белых войск. Но вскоре произошедшие перевыборы в Финляндии, которые генерал Маннергейм проиграл и лишился политической власти, полностью перечеркнули на время совместный поход финских и русских войск.
Представители разного толка и рода финских политических организаций в переговорах с генералом Юденичем предложили ему выставить под ружьё около 10 тысяч финских добровольцев для совместной операции по освобождению Петрограда от большевиков.
Николай Николаевич отнесся к этому предложению без энтузиазма, поскольку рассчитывал на силы финской армии, а не на политизированных людей, от которых, как он небезосновательно полагал в будущем можно ждать чего угодно. В сложившейся ситуации он стремился освободить подъярёмную большевиками российскую столицу силами только РУССКИХ войск. Начальник конвоя при начальнике 2-й дивизии перед походом вспоминал: «Если бы ещё сговориться с Финляндией, то дело пошло совсем хорошо. Но, кажется, наше главнокомандование против постороннего вмешательства в русские дела. Оно не хочет вводить в Петроград иностранные войска, так как из этого создалась бы (одно слово неразб. – С.З.) новая коньюктура, вытекали бы обязательства и руки великой России были бы связаны».
16 октября 1919 года генерал Юденич сообщил советнику русского посольства в Швеции о том, что выступление финских добровольческих войск в настоящее время нежелательно.
Когда, прибыв на фронт в 20-х числах октября 1919 года, генерал Юденич убедился, что стремительный натиск на красный Петроград не увенчался успехом, он срочно инициировал очередные переговоры с правительством Финляндии через военных представителей Антанты, своего тамошнего представителя генерала А.А. Гулевича и членов Северо-Западного правительства.
Но пока шли согласования, писался проект договора С.Д. Сазоновым между Верховным Правителем адмиралом Колчаком (которому подчинялся генерал Юденич) и финским правительством драгоценное время было упущено и войска Северо-Западной Армии оказались в пределах Эстонской республики.
Награждение за боевые отличия распространить и на солдат армии, награждая солдат Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями, согласно Георгиевского Статута.
Награждение Георгиевскими крестами и медалями производить властью Командующего Армией и Командиров Корпусов.
В виду невозможности найти в продаже достаточного числа крестов и медалей, награждаемым надлежит выдавать Георгиевские ленточки, которые носить в виде полосок по английскому образцу: шириной в ½ дюйма для крестов и в ¼ дюйма для медалей; ленточки обозначающие кресты, носить над ленточками обозначающими собой медали.
В дальнейшем, по установлению в России твёрдой власти и Государственного порядка, всем награжденным будут выданы кресты и медали и присвоены права, соответствующие наградам.
Главнокомандующий,
Генерал - от - Инфантерии
Юденич».
Союзники и высшие чины Армии подталкивают генерала Юденича к развёртыванию боевых действий. В своём дневнике 9 октября он запишет:
«К наступлению подговаривали ещё 7/IX, когда я был в Ревеле, но я коротко ответил, что армия к наступлению не готова, что мы только разлагаем (развалим, размажем? – С.З.) фронт, создадим положение, какое было до июльских боёв, и потому приказываю отойти на ранее намеченные позиции. Протестовал, но в виду настояния всех генералов и телеграммы Палена, согласился на наступление в С.В. [Северо-Восточном] направлении, но сделал это большою неохотою, сознавая бесполезность и не веря в успех. В 7 вечера Вандам доложил, что от наступления 1 корпус отказался, что на них самих обрушено наступление 2 красных полков, весь пыл пропал. Что ж, спрашиваю, они провоцировали меня, Главнок. [омандующий] де поспешил».
11 октября Николай Николаевич с горечью внесет в свой дневник рассказ прибывшего к нему из Парижа штабс-ротмистра Фохта «о позорном поведении русских после революции и сейчас, русских во Франции много, [в] том числе и офицеров, но никто ехать воевать не хочет. Служат лакеями, торгуют, в конторах, нищенствуют, поступили на содержание, но драться с большевиками не хотят. Это кто-то другой должен сделать, а русские богачи или вельможи приедут в свои особняки, поместья».
К сожалению, генералу Н.Н. Юденичу не удается достичь желаемого результата. Пополнение, как личным составом из числа добровольцев из Англии и Латвии и военнопленных из Польши и Германии, как и доставка основной партии боеприпасов, вооружения, продовольствия и обмундирования, которых удалось с трудом добиться у союзников, должны были прибыть к концу осени, началу декабря 1919 года. Преимущество в снабжении Эстонской армии для англичан стояло на первом месте.
По просьбе адмирала А.В. Колчака и под давлением англичан, Главнокомандующий был вынужден начать операцию раньше запланированного срока. Третьей причиной преждевременного похода на красный Петроград послужил, не увенчавшийся успехом, сентябрьский этап переговоров о перемирии между эстонскими властями и большевиками.
Вместе с тем радикально настроенные эстонские политики разжигали в газетах ненависть у эстонских солдат и местного населения к русским воинам, что ставило под вопрос дальнейшее успешное взаимодействие русских и эстонских войск на Петроградском фронте.
Доходило до личных угроз жизни генералу Юденичу.
«Вчера получено было предупреждение, что мою личность в течение нескольких дней нужно охранять особенно старательно. Сегодня когда совершал обычную прогулку в саду, кроме агента, ктр. [который] всегда торчит при мне, заметил другого субъекта совсем хулиганистого вида, ктр. [который] непринуждённо и не обращая внимания, прогуливался вокруг меня. После обеда во время доклада Конд. [ырева] принесли телеграмму, что необходимо усилить в течение нескольких дней охрану Ген. [ерала] Юденича и его Штаба. Он же доложил агентурное сообщение, что сегодня между 7-8 часами будут срывать с офицеров погоны. Ну, говорю, коли, ждут, значит, ничего не будет».
12 октября генерал Юденич запишет в дневнике: «Родзянко очень напирал на отношение к нам Эст. [онцев]. Союзники они наши или нет. На их переговоры о мире с большевиками. Ответственность за получаемое оружие и снаряж. [ение] при отношении Эстонцев к войне, ведь всё может достаться большевикам и пойти против нас же. Нападения на офицеров, угрозы разделаться со всеми русскими, участившиеся эксцессы по отношению к русским при явном попустительстве властей, стеснение в передвижении, стеснение в доставке грузов и выгрузке их в Нарве на станции №1, требование пошлин за некоторые грузы, запрещённые ввозить в Нарву со станции №2 и требование пошлин (подчеркнуто Н.Н.Ю). Всё вместе волнует штаб, офицеров, фронт. Боятся оказаться в мешке. Он сам при таких условиях не может ни работать, ни нести ответственности. Затронутые вопросы и меня уже давно волнуют. Отношение к нам эст. [онцев] определённо с каждым днём ухудшается и стеснения и эксцессы растут.
Никогда ещё в таком скверном положении не был. Есть деньги, оружие, наладилось снабжение и начинает исчезать тыл, всё колеблется, рухнет тыл и рухнёт всё, весь фронт, всё дело. Ясно видна умелая рука, умелых агитаторов, а Гоф и Марш сыграли им в руку; подняли вопрос о независимости Эст. [онии], обнадёжили их, вскружили им голову, это и без того больное место Эст. [онцев], а независимость их никто не признал, кроме нас, ктр [которых] тоже никто не признал. Горечь их обиды обратилась на нас».
Через четыре дня генерал Юденич оставит в своём дневнике следующую запись:
«16/IX состоится в Пскове съезд большевицких и эстонских представителей для мирных переговоров, первоначально по гемограмме перехваченной 10/IX съезд должен был состояться 15/IX. Хотя Поска под большим секретом заверил Лианозова, что правительство будет симулировать переговоры и поведёт их так, что большевики откажутся сами, потому это будет так сделано, что, учитывая настроение масс, правительство прямо отказать в мирных переговорах не может, но сможет ли он сделать так, как говорит, да и говорит ли он так, как действительно поступить хочет?
Но наше положение, имея врага спереди и почти врага в тылу, невыносимое и легко может сделаться критическим».
Поддерживая постоянную связь с тайными антибольшевицкими организациями в Петрограде, генерал Юденич предпринял Осеннее наступление на красный Петроград, рассчитывая на их организованное восстание в городе. В июне и сентябре 1919 года чекистами в Петрограде были проведены массовые обыски и аресты среди населения, что нанесло серьёзный урон подпольным антибольшевицким организациям. По советским данным в июне «буржуазные кварталы Петрограда были подвергнуты поголовному обыску, причём было найдено четыре тысячи винтовок и несколько сотен бомб».
«Восстановить объём и подготовку готовых к вооружённому наступлению на стороне белых организаций и частей Красной армии в Петрограде и его окрестностях, в настоящее время полностью ещё невозможно. <…> Все дела разведывательного отдела были уничтожены по приказу генерала Юденича в январе 1920 года». По собранным совр. историками сведениям: «В Петрограде все подпольные организации могли выставить для вооруженного выступления (в октябре 1919 – С.З.) от 600 до 800 человек, не считая 4-го подрывного дивизиона Карпова и отчасти 3-го такого же дивизиона, а также некоторых, главным образом, артиллерийских частей».
28 сентября 1919 года части Северо-Западной Армии наносят отвлекающий удар по войскам Красной Армии на Псковском направлении. 10 октября 1919 года начинается главное наступление на Петроград. За 6 дней молниеносного наступления северо-западники подошли к предместьям Петрограда. Были освобождены Луга, Гатчина, Павловск, Царское Село, Красное Село…
В октябре 1919 года Ленин телеграфирует в Смольный: «Покончить с Юденичем нам дьявольски важно». 16 октября 1919 года в Петрограде была объявлена всеобщая мобилизация, на фронт брошены последние резервы, был даже сформирован полк из женщин работниц, своего рода аналог женским ударным батальонам 1917 года. Троцкий исчерпал все петроградские силы. 22 октября 1919 года Ленин обращается по телеграфу к Троцкому: «Нельзя ли мобилизовать ещё тысяч 20 питерских рабочих плюс тысяч 10 буржуев, поставить позади их пулемёты, расстрелять несколько сот и добиться настоящего напора на Юденича? (выделение наше – С.З.)».
Генерал Б.С. Пермикин вспоминал: «На рассвете мои Талабчане взяли в плен весь этот “заслон”. Пленных было много. Этот “заслон” состоял из собранных на улицах Петрограда людей. Я их не считал, но очень многих опросил. Среди опрошенных был и мой штатский петроградский знакомый».
Войска СЗА были истощены постоянными боями и недосыпанием. Не имея свежих резервов, командование было вынуждено дать передышку войскам на два дня.
Этим умело воспользовался Троцкий, лихорадочно сосредоточив на Петроградском фронте силы трёх красных армий. Соотношение артиллерии стало: 1 к 10! Белое командование было вынужденно пойти на рискованные меры, перебросив из-под Луги под Петроград 1-ю дивизию и два полка 4-й дивизии. Тем самым, оставив в городе лишь один запасной полк, который не смог сдержать натиска превосходящих сил противника и вскоре сдал город.
В силу разных причин, не смотря на героизм и самоотверженность белых добровольцев, операция не увенчалась успехом. Чтобы спасти Армию от раздробления и окружения отдельных частей генерал Юденич приказывает отступать от пригородов Петрограда на первоначальные перед наступлением позиции.
После кровопролитных и ожесточенных боев за Ямбург, который генерал Юденич приказал удержать, во что бы то ни стало, как плацдарм, Армия, приказом генерала Родзянко 14 ноября отступила к границам Эстонии на узкую полосу от Ропши до Усть-Черново (Криуши).
Штабс-капитан, барон Н.И. Будберг записал в своём дневнике: «Настроение подавленное: отдали город Ямбург. Теперь уже нашей русской земли оставался совсем небольшой клочок, верст 15 до Нарвы, да в ширину столько же до станции Низы. Тяжело было на душе, не знали, как выйти из создавшегося положения. Наша 2-я дивизия кое-как могла еще (два слова неразб. – С.З.), а вот 1-я, 4-я и отчасти 5-я Ливенская совсем были прижаты к Эстонии. А там на нас, ох как косо смотрят! Сидят на каком-то пятачке и видят, как спереди и сзади блестят штыки, не особенно приятно».
Главной причиной неудачи Осеннего Похода СЗА на красный Петроград послужил отказ полковника Бермондта-Авалова исполнить приказ генерала Юденича и прибыть из Латвии во главе своего Западного корпуса, насчитывающего до 12 тысяч российских поданных для участия в общем Осеннем наступлении на Петроград.
Другими причинами являлись:
отказ генерала Ветренко исполнить приказ для выведения из строя железнодорожных мостов у Тосно, чтобы помешать Троцкому, перебросить подкрепления на Петроградский фронт из Москвы;
не поддержка английским флотом наступления СЗА;
многократное преимущество красных в артиллерии;
малочисленность Северо-Западной Армии. К началу Осеннего похода Северо-Западная Армия насчитывала более 19 тысяч бойцов. Причём 5 тысяч из них были направлены 28 сентября 1919 года в наступление на Псков для отвлечения внимания командования Красной армии. Основная фаза операции “Белый меч” на Петроградском направлении началась 10 октября силами 14280 штыков.
Тогда, как «7-я Красная армия под командованием бывшего генерала Г.Н. Надежного к 29 октября 1919 года возросла до 37292 штыков, 2057 сабель, при 659 пулемётах и 449 орудиях. К 11 ноября (начало боев за Ямбург), несмотря на большие потери, армия красных насчитывала 43380 штыков, 1336 сабель, при 491 орудии, 927 пулемётах, 23 аэропланах, 11 бронемашинах и 4 бронепоездах».
Эстонцы на границе саботировали доставку боеприпасов и продовольствия под Петроград.
Железнодорожный мост в Ямбурге был не исправлен, что затруднило доставку танков, подвоз боеприпасов и продовольствия на фронт.
Под Петроград прибыло всего 6 старых тяжёлых танков и два (три) лёгких танка. Важно заметить, что танки, присланные англичанами, были старые и постоянно ломались. Исправных аэропланов были единицы, авиаторы, как и моряки, воевали в пехоте.
В то время, когда красные активно применяли авиацию «гидросамолеты, базирующиеся в Ораниенбауме. <…> Пилоты вели разведку, на низких высотах от 100 до 300 метров, вели пулеметный огонь, сбрасывали небольшие бомбы и стрелы (это были острые куски металла для поражения колонн пехоты и конницы). За время [осенних] боев было сброшено 400 пудов бомб и 40 пудов стрел».
Здесь важно сказать о сложившемся мнении, что вход в Петроград не имел смысла, потому как малочисленная Северо-Западная Армия распылилась бы в столице и все равно не смогла бы удержать голодный, пролетарский город.
Конечно, силы северо-западников к концу октября поредели за счёт потерь в боях, но в Петрограде к тому времени и у большевиков не оставалось резервов.
Вхождение белых войск в Петроград даже малыми силами имело огромное психологическое значение. Освобождение Северной Пальмиры от власти большевиков, несомненно, окрылило и придало бы силы уставшим северо-западникам, и воодушевило замученное террором, истощённое голодом и холодом население Петрограда. Опора советской власти питерские рабочие ненавидели большевиков, ибо многие уже познали на себе истинную суть их диктатуры. Бунты рабочих в Петрограде подавлялись силой интернациональных большевицких отрядов.
И наоборот падение красного Петрограда внесло бы уныние и разложение в ряды красных частей, переброшенных спешно Троцким из Москвы. Ряды северо-западников при освобождении Петрограда, несомненно, пополнились бы многочисленными добровольцами.
А.И. Куприн вспоминал в эмиграции: «Победоносное наступление Северо-Западной Армии было подобно для нас разряду электрической машины. Оно гальванизировало человеческие полутрупы в Петербурге, во всех его пригородах и дачных посёлках. Пробудившиеся сердца загорелись сладкими надеждами и радостными упованиями. Тела окрепли, и души вновь обрели энергию и упругость. Я до сих пор не устаю спрашивать об этом петербуржцев того времени. Все они без исключения, говорят о том восторге, с которым они ждали наступления белых на столицу. Не было дома, где бы не молились за освободителей и где бы не держали в запасе кирпичи, кипяток и керосин на головы поработителям. А если говорят противное, то говорят сознательную, святую партийную ложь».
К концу ноября можно было смело рассчитывать на помощь войск Финской армии, которым генерал Юденич планировал вменить временные полицейские и охранные функции в Петрограде.
Интендантская служба штаба генерала Юденича и Северо-Западное правительство располагало к октябрю 1919 года большими запасами муки, картофеля, консервов, сала, прочих продуктов и лекарственных средств, полученных у союзников (главным образом из Америки) и закупленных в кредит специально для изголодавшегося населения Северной Пальмиры. Для жителей Петрограда были даже заготовлены большие запасы дров. Особые запасы продовольствия сберегались для детей.
К середине ноября 1919 года войска с многочисленными беженцами сконцентрировались у колючей проволоки перед Ивангородским форштадтом. За проволокой были выставлены эстонские войска с направленными на русских пулеметами и пушками.
Генерал Юденич шлет срочные депеши генералу Лайдонеру с предложением принять под своё командование русские войска и впустить обозы с мирными беженцами на территорию Эстонии.
Но получает следующий ответ:
«Вопрос о переходе Северо-Западной Армии под эстонское Главнокомандование решён правительством Эстонии отрицательно. Точка. Кроме того, постановлено, что части Северо-Западной Армии, перешедшие в Эстонию должны быть обезоружены. Точка. Генерал Лайдонер».
Трое суток десятки тысяч людей вынуждены были ночевать под открытым небом при морозах, достигавших ночью до -20°С. Некоторые из них скончались от обморожения.
На третий день эстонские власти разрешили впустить беженцев и войска в русскую часть Нарвы в Ивангород.
Часть деморализованных войск СЗА пропустили вглубь Эстонии, предварительно полностью разоружив и ограбив, вплоть до обручальных колец и нательного английского белья.
Боеспособные части СЗА эстонские власти оставили на фронте, защищать эстонскую границу от красных.
С середины ноября 1919 года до начала января 1920 года более 10 тысяч северо-западников вместе с эстонскими войсками противостоят на подступах к Нарве намного превосходящим силам Красной армии под руководством Троцкого.
Не смотря на сильные морозы и тяжелейшие условия быта, северо-западники героически защищают Эстонию, контратакуют, переходя местами в штыковые схватки с противником, берут с боя пленных, захватывают в трофеи пулемёты и артиллерийские орудия.
Независимость Эстонии в немалой степени была спасена благодаря доблести русских воинов.
26 ноября 1919 года генерал Юденич назначает во главе Армии генерала П.В. Глазенапа. К этому времени разразилась страшная эпидемия тифа и испанского гриппа. От болезней погибло более десяти тысяч северо-западников и тысячи гражданских беженцев. Только в одной Нарве по данным Нарвской военной комендатуры к началу февраля 1920 года умерло семь тысяч северо-западников! На территории Эстонии возникло около двадцати братских захоронений и братских кладбищ северо-западников.
Офицер СЗА вспоминал: «Наши союзники англичане (“Антантины сыны”, как их стали называть в Армии) молча смотрели на это организованное истребление русских Белых полков и пальцем не пошевелили, чтобы как-нибудь помочь нам. Люди как мухи гибли от болезней,– достаточно сказать, что количество больных достигало 16000 тысяч человек, когда в Армии числилось немногим больше 20-25 тысяч. Эстония считала, что роль Русской Белой Армии уже окончена. После того, что наши Белые полки помогли изгнать большевиков из пределов Эстонии зимой 1919 года, после того, что мы в продолжение 9 месяцев прикрывали ее границы, Эстония решает уничтожить эту Армию, как лишнюю помеху для заключения своего позорного мира с ворами и убийцами-большевиками».
Поняв полную безнадежность продолжения борьбы на Северо-Западном фронте, 20 декабря 1919 года адмирал А.В. Колчак посылает генералу Юденичу телеграмму, в которой благодарил его за труды. Причины неудач Адмирал видел не в ошибках, а в сложности обстановки и предлагал Н.Н. Юденичу ехать в Париж и Лондон для доклада Совету Послов и союзникам, и ходатайствовать перед ними о дальнейшей поддержке. Однако генерал Юденич отказался бросить армию.
Супруга генерала Юденича Александра Николаевна объявляет через русские газеты о сборе пожертвований, как деньгами, так и продовольствием, передавая посылки воинам в окопах, раненым и больным в лазаретах.
Тщетно в эти дни генерал Юденич посылал телеграммы и курьеров министру иностранных дел С.Д. Сазонову в Париж и в русское посольство в Лондоне. В одном из посланий генерал Юденич писал: «Прошу сообщить Черчиллю – эстонцы насильственно отбирают в свои склады имущество, отпущенное Северо-Западной Армии. Протесты безрезультатны, местные миссии (союзников) бессильны». Не только все телеграммы, но и курьеры задерживались эстонскими властями. «С конца ноября 1919 г. по февраль 1920 г.,– вспоминал генерал П.А. Томилов,– Главнокомандующий не получил ответа ни на одну из своих телеграмм нашим представителям за границей».
Усиливаются переговоры с правительствами Финляндии и Латвии. Генерал Юденич обращается с призывом пропустить русские боеспособные войска, через свои территории, для продолжения борьбы в Северной Армии генерала Е.К. Миллера, или в рядах ВСЮР генерала А.И. Деникина. Но все тщетно. Генерал Юденич упорно добивается перед правительством Латвии разрешения на перевод своих войск на территорию республики, где в Риге существовал Этап (вербовочное бюро по формированию русского добровольческого отряда имени Адмирала Колчака) Северо-Западного Фронта под командованием генерал-майора Н.Д. Фадеева.
Русская газета, выходящая в Эстонии, сообщала: «Делегация в составе генерала Этьевана, французского представителя в Балтийских государствах, генерала Владимирова внесла вопрос, как Латвия смотрела бы на переход Северо-Западной Армии на территорию Латвии. Правительство Латвии совещалось с представителями Народного Совета и дало делегации отрицательный ответ по следующим причинам:
1) Нежелательность присутствия чужой армии на территории Латвии;
2) недостаток подвижного состава и продовольствия и
3) недоверие масс к русским войскам, принимая во внимание Бермондтовскую авантюру».
В отчаянии генерал Юденич, ради спасения своих соратников обращается к германским властям о разрешении переброски русских войск на германскую территорию. Правительство Германии отклоняет его предложение.
Спасение Северо-Западной Армии путем ее перевода на другой фронт упиралось в отсутствие морского транспорта. С 1 января 1920 года русским военным командованием были предприняты переговоры с Англией, Францией и Швецией о предоставлении пароходов для проведения эвакуации. Переброске Армии на другие фронты способствовала позиция, занятая правительством Эстонии, которое в преддверии подписания мирного договора с большевиками, разрешило личному составу Армии с оружием, уложенным в ящики, покинуть территорию республики. Требовались деньги на фрахт кораблей. Лишь в феврале 1920 года генералом Деникиным были выделены 75 тысяч фунтов стерлингов на доставку 20 тысяч северо-западников морским путем в Новороссийск и Феодосию. Но было уже поздно. Пункты Тартуского мирного договора Эстонии с РСФСР перечеркивали первоначальное согласие эстонских властей на эвакуацию СЗА. Эстонцы оставили оружие только отряду Булак-Балаховича, весной 1920 года, выехавшего в Польшу для продолжения Белой борьбы. Страшная эпидемия тифа, разразившаяся в Эстонии, уже «эвакуировала» большинство чинов строевого личного состава Армии.
Редактор армейской газеты Г.И. Гроссен писал: «Печальные курганы из русских черепов, которые в большом количестве рассеяны на территории той Эстонии, в фундамент независимости коей вложили свою лепту из жизней и покоящиеся в этих курганах воины Северо-Западной Армии <…>. Трупы северо-западников послужили удобрением для эстонской независимости!»
Морской офицер вспоминал: «Искренние старания генералов Юденича и Краснова по вывозу остатков армии на нейтральную территорию для её переформирования и сохранения боеспособной силы не увенчались успехом».
Осознав всю тщетность своих усилий переправить боеспособный костяк Армии на другие фронты Белой Борьбы, 22 января 1920 года генерал Юденич сложил с себя полномочия Главнокомандующего Северо-Западным Фронтом и назначил Ликвидационную комиссию.
В своих последних приказах к войскам в начале 1920 года генерал Н.Н. Юденич написал: «От лица замученной низостью и предательством, но уже оживающей Родины, выражаю глубокую благодарность всем чинам Армии, которые в самые мрачные дни нашего государственного существования бесстрашно несли на алтарь Отечества свою могучую волю, свои организаторские дарования, здоровье и силы. Вечная память тем, кто с непоколебимой верою в величие Русского народа положили жизнь свою за братьев своих» <…>.
«Я не считал себя вправе покинуть Армию, пока она существовала, сознавая свой высокий долг перед Родиной. Теперь, когда обстановка принуждает нас расформировать части Армии, и ликвидировать ее учреждения, с тяжкой болью в сердце я расстаюсь с доблестными частями Северо-Западной Армии. Отъезжая от Армии, я считаю своим долгом, от имени нашей общей матери России, принести мою благодарность всем доблестным офицерам и солдатам за их великий подвиг перед Родиной. Беспримерны были ваши подвиги и тяжелые труды и лишения. Я глубоко верю, что великое дело русских патриотов не погибло!».
В Ревеле супруги Юденич временно поселились в гостинице «Коммерческая». Ночью 28 января генерал Юденич был арестован в своём гостиничном номере эстонскими полицейскими во главе с атаманом Булак-Балаховичем и бывшим прокурором СЗА Р.С. Ляхницким. Из гостиницы он вместе со своим верным адьютантом капитаном Н.А. Покотилло под вооружённым конвоем был доставлен к поезду, выехавшему в сторону советской границы. Балахович требовал от Николая Николаевича выдать ему 100 тысяч английских фунтов. «Эстонское радио сообщало <…>, что поводом к аресту Юденича послужило желание его бежать за границу с остатками денежных сумм, предназначенных для армии, что он уже успел перевести большие суммы в Англию и что остальных русских генералов ожидает такая же участь».
Лишь благодаря вмешательству представителей военных миссий Антанты в Эстонии, генерал Юденич был освобождён из-под балаховской неволи и возвращён обратно в Ревель.
Друг капитана Н.А. Покотилло офицер-ливенец писал ему 4 февраля 1920 года: «Дорогой друг, <…> из газет узнали о разбойном нападении на Главнокомандующего (и Вас) <…> Балаховича. Все мы глубоко возмущены. Слава Богу, что все обошлось».
Эстонские власти всячески препятствовали выезду четы Юденич из страны, требуя от генерала Юденича выдачи им всех (даже личных!) денег. Настаивали также перед Н.Н. Юденичем на составлении письменного обязательства о том что «все капиталы и имущество, где бы они не находились, находящиеся сейчас и в будущем в его распоряжении, он обязан сдать Эстонскому правительству сейчас и в будущем». Николай Николаевич категорически отказался дать подобное обязательство. Эти наглые требования эстонских властей очень поразили полковника Александера и сотрудников Английской миссии.
Часть денег, ранее полученных от адмирала Колчака, генерал Юденич передал в Ликвидационную комиссию СЗА для выдачи жалования северо-западникам.
После долгих хлопот Александра Николаевна Юденич смогла переехать в Финляндию.
Благодаря содействию того же полковника Александера, Н.Н. Юденич с Н.А. Покотилло покинули наконец-то враждебные им эстонские пределы, выехав в поезде Английской миссии в Ригу.
Прибыв из Эстонии через Ригу в начале марта 1920 года в Швецию, Н.Н. Юденич расходование второй части средств (находившихся на счетах в шведских кронах в банке Стокгольма) поручил адмиралу В.К. Пилкину для погашения задолженностей Северо-Западной Армии перед иностранными кредиторами и материального вспомосуществования бывшим воинам СЗА. В частности, генерал Юденич распорядился о выплате банковской ренты вдове адмирала А.В. Колчака Софии Фёдоровне. Остаток денежных средств от фонда СЗА, хранящийся в одном из банков Англии без уведомления Н.Н. Юденича был передан во Франции послом Гулькевичем “Совету Послов”. Через несколько лет госпожа С.В. Келпш, обратившаяся с письмом генерала Юденича к этому Совету за материальной помощью для увечных русских воинов в Эстонии, получила отказ.
Переехав с женой в Данию, Н.Н. Юденич в Копенгагене был принят Вдовствующей Императрицей Марией Фёдоровной, после него Высочайшего милостивого приглашения удостоилась и супруга генерала.
Совершив поездку в Лондон, считая себя туристом, Н.Н. Юденич счёл возможным нанести визит лишь Уинстону Черчиллю, как единственному человеку в британском правительстве, по мнению генерала Юденича, искренне помогавшему Белому Движению в России.
В Париже Н.Н. Юденич узнал печальную весть о крушении Южного Фронта и об ответе генерала П.Н. Врангеля на его телеграмму, в которой он предлагал свои услуги и вел речь о передаче в его распоряжение остатков военных сил, материала и денежного фонда в Лондоне. В столице Франции Николай Николаевич узнал, что посол Гулькевич, не поставив его в известность, передал оставшиеся денежные средства от фонда для СЗА «Совету Послов».
Через несколько лет, направленной Н.Н. Юденичем с письмом к этому “Совету” в Париже г-же Келпш, обратившейся за помощью для устроенных ею в Эстонии госпиталей для русских воинов-инвалидов, там ответили, что денег у них больше не осталось и на удивлённый вопрос ей добавили: «Так между пальцами и разошлись». Узнав об этом неприятном факте, генерал Юденич до конца своей жизни оказывал помощь из личных денег своим бывшим подчиненным в Эстонии, получившим увечья на Северо-Западном Фронте. После его кончины пожертвования увечным воинам в Эстонии поступали от его вдовы.
***
Поселившись на юге Франции, Николай Николаевич все годы своей беженской жизни посвятил материальной и моральной помощи и поддержке своим соратникам и их семьям, рассеянным по европейским и прибалтийским странам. В частности из остававшихся средств Северо-Западной Армии он основал несколько сельскохозяйственных колоний для своих бедствующих сослуживцев.
В 1932 году незадолго до кончины генерала Юденича его посетил генерал Б.С. Пермикин. Позже он вспоминал: «Генерала Юденича в его доме под Ниццей в Сэн Лоран дю Вар я встретил в очень большом окружении родственников и друзей. Когда они все ушли, генерал Юденич мне сказал, что он знает, что я хотел бы остаться жить на Ривьере. Он будет очень рад мне помочь, и что я могу также заняться куроводством, как и он, недалеко от Ниццы в Gros de Cagne, где ему предлагают купить виллу американки с полным оборудованием для куроводства, в которой я бы мог жить.
Тогда я спросил Юденича, сохранились ли у него средства от Северо-Западной Армии. Он мне подтвердил, что они сохранились, и что он их сохранил для того, чтобы помогать нуждающимся северо-западникам. Я его попросил купить для них дом на Ривьере, куда бы они могли приезжать на отдых. В этом (два слова неразб. – С.З.) сказал, так как хотя у него средства и сохранились в английских фунтах, но ценность их очень упала и что он помогает так, как он может, предложив мне, если я соглашусь заниматься куроводством, то он купит виллу этой американки. <…> Я отказался от этой виллы. Генерал Юденич пожурил меня, что я остался тем же самым и горячусь по молодости, что после его смерти он оставит состояние, обеспечив свою жену, Союзу Северо-Западников, и что я не имею права на него сердиться за его “маленькую хитрость”, когда он меня послал вместо Риги в Финляндию.
Юденич был очень стар, его голова тряслась, он мне дал чек на Английский банк в Ницце на 15000 франков с просьбой всегда к нему обращаться, когда мне нужна будет его помощь. Это была наша единственная и последняя встреча. Через год он умер».
Будучи глубоко верующим православным христианином, Николай Николаевич жертвовал деньги не только на нужды православных храмов в Русском Зарубежье, но и щедро делился собственными деньгами, помогая учебным заведениям для детей русских эмигрантов. Свою христианскую заботу он начал проявлять ещё на Северо-Западном фронте, оказывая помощь нуждавшемуся гражданскому населению.
Юденич помогал в издании сочинений сослуживцев и поддерживал русские периодические издания. В созданной А.Н. Яхонтовым Русской школе Николай Николаевич читал лекции о русской культуре.
Участвует Н.Н. Юденич и в военной русской жизни во Франции. На открытие Русских военных учебных курсов в Ницце он выступил с теплым, приветствующим словом, выделив заслугу инициаторов и организаторов этого дела. На протяжении ряда лет Н.Н. Юденич являлся председателем общества “Ревнителей русской истории”.
Практически все современные авторы жизнеописания генерала Н.Н. Юденича утверждают, что он, проживая во Франции, не принимал никакого участия в политической деятельности русской военной эмиграции. Однако, в пространной научной монографии современного российского историка мы обнаружили удивительное упоминание о том, что генерал А.П. Кутепов, будучи на посту председателя РОВС-а так и не решился (вплоть до своего похищения чекистами 26 января 1930 года) утвердить своим преемником генерала Е.К. Миллера. По признанию генерала А.А. фон Лампе генералу Е.К. Миллеру: «Он не хотел делать это в обход командующего другим белым фронтом в годы Гражданской войны в России – генерала Н.Н. Юденича, который неожиданно стал сопротивляться этому назначению. Кутепов, по словам фон Лампе, считал, что издать и опубликовать приказ о назначении Миллера своим заместителем означает разорвать с Юденичем, чего он не хотел».
В августе-сентябре 1931 года основная часть военной русской колонии, проживающая в странах Европы, устроила многодневное торжественное чествование генерала Н.Н. Юденича, отметив его пятидесятилетие производства в офицерский чин. По инициативе председателя РОВС генерала К.Е. Миллера был создан Парижский Юбилейный комитет во главе с генералом П.Н. Шатиловым.
«В субботу в Париже 22 августа в зале Жан Гужон состоялось торжественное собрание. <…> С докладами выступили генерал Томилов (Служба ген. Юденича), генерал Масловский (Операции Кавказского фронта), генерал Леонтьев (Северо-Западная Армия), генерал Филатьев (Исторические параллели)». Были произнесены многочисленные поздравления. «Генерал Юденич прибыл на собрание со своей супругой и сидел в первом ряду между генералами Миллером и Деникиным. Интересно отметить, что генерал Деникин и генерал Юденич познакомились впервые. <…> Присутствовали представители всех военных организаций, некоторые общественные деятели и много бывших чинов Кавказской и Северо-Западной Армий. <…> В частности в своей речи генерал Леонтьев сказал, обращаюсь к юбиляру: «Ваши заслуги перед Отечеством в мирное время и в Японскую и Великую войну высоко оценены ГОСУДАРЁМ ИМПЕРАТОРОМ. Мы же, сражаясь под Вашим начальством в рядах Северо-Западной Армии, были одухотворены Вашим высоким порывом освобождения Родины от ига большевизма. Не нам судить о причинах, что наша борьба не привела ещё к желанным результатам. Заслуги Ваши в этом деле велики – история их в своё время отметит, а воскресшая Россия их вспомнит».
Генералу Юденичу были преподнесены красочно и художественно оформленные Адреса.
От Союза Ливенцев выступил полковник Бушен. Он в частности, зачёл следующие строки из Адреса, подписанного Светлейшим князем А.П. Ливеном: «В дни тяжёлых испытаний, выпавших на долю нашей Родины, Вы не поколебались стать во главе Белого Движения на Северо-Западном фронте. Тут присоединился к Вам, сформированный в Южной Прибалтике русский добровольческий Отряд и как Пятая Дивизия Северо-Западной Армии приняла под Вашим водительством активное участие в славном молниеносном наступлении на Петроград. Волею судеб обстоятельства, лежащие вне сферы воздействия Вашего Высокопревосходительства, не дозволили довести начатое дело до победного конца. Но мы все, Ливенцы продолжаем верить в окончательную победу белой идеи над красным интернационалом и шлем, поэтому в сей знаменательный день Вам наши поздравления».
Николай Николаевич Юденич скончался 5 октября 1933 года на руках супруги и был погребён с воинскими почестями, бесконечным количеством венков, по желанию вдовы в крипте Михайло-Архангельской церкви в Каннах рядом с прахом Великого Князя Николая Николаевича. Городской совет назначил высокий налог за нахождение гроба с останками русского генерала в храме.
На отпевании 6 октября в Каннский храм собрались отдать дань уважения заслугам русского полководца делегации от РОВС, от чинов Кавказской Армии и Северо-Западной Армии. На кончину знаменитого генерала откликнулись статьями и некрологами все крупные периодические издания русского рассеяния.
Через 24 года Александра Николаевна Юденич по причине банкротства и скопившегося денежного долга муниципальным властям согласилась на перевоз и погребение праха супруга на Русском кладбище в Ницце. Деньги были собраны по подписке чинами РОВС. 9 декабря 1957 года в День Георгиевских Кавалеров, традиционно считающимся Днём Русской Армии, гроб с телом русского полководца упокоился в земле Русского кладбища. Русскими офицерами были возданы воинские почести генералу Н.Н. Юденичу и возложены венки к его могиле.
При похоронах генерала Юденича, ему, как Кавалеру ордена Почетного Легиона полагалось воздаяние воинских почестей от Французской армии, но бывший тогда военным министром Даладье запретил их. Случай беспрецедентный в истории Ордена. Присутствующие при погребении генерала Н.Н. Юденича французские кавалеры ордена были до глубины души возмущены этим запретом.
***
В своё время Д.С. Мережковский, оценивая поток трудов исследователей жизни Наполеона, высказал следующую мысль: «Каждая новая книга о Наполеоне камнем падает на его могилу и ещё больше мешает понять и увидеть Наполеона».
Мы верим, что настоящее подробное и правдивое жизнеописание о талантливом Русском Полководце и Национальном Герое России генерале Николае Николаевиче Юдениче ещё впереди.
Если войскам Деникина не суждено было увидеть Москву, то войскам Северо-Западной армии генерала Юденича удалось приблизиться вплотную к прежней столице России: они находились в нескольких «шагах» от Петрограда. А могли ли они прошагать по тому же Невскому проспекту?
С чем шла его армия на «красный» Питер? Нас учили в советской школе, что она шла, чтобы уничтожить «колыбель революции» и восстановить в России власть помещиков и капиталистов. Но так ли это на самом деле?
Изучая биографию Юденича, удивляешься, что этот «царский генерал», присягавший «царю-батюшке», в условиях гражданской войны вовсе не думал о возврате к старому режиму. Он мыслил по-новому. Вот только не все к нему прислушались, а союзники вообще предали.
Родился Николай Николаевич 18 июля 1862 года, через полтора года после отмены крепостного права. Родился в Москве в дворянской семье. Рядом находилось военное пехотное училище, куда принимали только детей дворян. Коля тоже мечтал попасть в его стены, однако вначале поступил в городскую гимназию. После её окончания детская мечта сбылась. Учился в училище очень хорошо, что дало ему право выбора будущего места службы. Подпоручик Юденич попадает в лейб-гвардии Литовский полк, покрывший ранее себя неувядаемой славой в 1812 году и во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
Далее служба забрасывает его в Туркестанский военный округ. Оттуда, уже поручиком, получает направление и поступает в Николаевскую академию Генерального штаба. Спустя три года, заканчивает её по первому разряду. Его причисляют к самому Генеральному штабу. В скором времени он вновь возвращается в Туркестан.
Как и многие генералы Белой армии, Юденич принимает активное участие в русско-японской войне. Его 18-й стрелковый полк оказался в самом пекле боёв в Маньчжурии. Войну закончил в звании генерал-лейтенанта. Будучи раненым в сражениях, лечился вплоть до 1907 года в госпитале. Свой 50-летний юбилей в 1912 году отметил в должности начальника штаба Казанского военного округа.
В Первую мировую войну Николай Николаевич воевал не на основном театре военных действий, но это не умаляет мужества и героизма возглавляемых им войск. Ещё в 1913 году его, генерал-лейтенанта, переводят в Кавказский военный округ. На базе его 1 ноября 1914 года образуется Кавказская армия, а позже - Кавказский фронт. То есть, он воевал с турками, неоднократно их побеждая.
Февральская революция 1917 года застала генерала в должности командующего Кавказским фронтом. Начались разногласия с Временным правительством. Его, боевого генерала, отстраняют от должности. И это в условиях войны! Но, видимо, Временное правительство и собиралось править «временно», иначе Юденича не тронули бы. Он едет в Петроград, потом – в Москву, куда прибывает его семья.
Как истинный патриот России, едет в Могилёв в Ставку, надеясь вернуться в строй, но безуспешно. Его не взяли обратно. Пришлось вернуться в Москву.
Октябрьский переворот генерал, разумеется, не принял. В следующем году эмигрирует в Финляндию, где собралось много русских эмигрантов, рвавшихся в бой с большевиками, принимает предложение Русского политического комитета и становится руководителем Белого движения на Северо-Западе России. Начинает формировать армию. Его цель – Петроград. С «чем» он собирался идти на него? Речь не об армии, понятно.
Северо-Западная армия шла на Петроград с политической декларацией: 1) установить всероссийское правление на основе народовластия; 2) созвать Учредительное Собрание на началах всеобщего избирательного права; 3) реформировать местное, земское и городское самоуправление; 4) установить равенство граждан перед законом; 5) установить неприкосновенность личности и жилища; 6) установить свободу слова; 7) передать землю крестьянам в собственность; 8) обеспечить интересы рабочего класса.
Знали ли об этом те, которых эта декларация касалась? Вряд ли? Но дело даже не в этом: документ мало чем отличался от большевистского. Но сам факт говорит о многом: Юденич, пожалуй, единственный руководитель Белого движения, который обещал гражданам России почти то же самое, что и Советская власть. За исключением, разве что, созыва Учредительного Собрания, которое матрос Железняк разогнал по причине: «Караул устал!».
28 сентября 1919 года армия Юденича при полной неожиданности для большевиков, перешла в наступление. В течение нескольких дней она разгромила защищавшую Петроград армию «красных». Пали Гатчина, Павловск, Красное Село, Царское Село, бои шли уже под Пулково. В Петрограде готовились к уличным боям.
Всё учёл генерал, кроме одного: у большевиков имелся Троцкий, которого Ленин срочно направил в Петроград. Как известно, этот «демон» революции не останавливался на перед чем, в том числе, и перед расстрелами каждого десятого красноармейца. Его в армии боялись больше, чем самих белогвардейцев. Что конкретно сделал тот, точно не установлено, но хорошо известно, что Ленин ему советовал: « Если наступление начато, нельзя ли мобилизовать ещё тысяч двадцать питерских рабочих плюс десять тысяч буржуев, поставить позади их пулемёты, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юденича?». Это писал «добрый» дедушка Ленин.
«Вмешательство» Ленина и Троцкого в защиту Петрограда принесло свои плоды: наступление Северо-Западной армии захлебнулось в нескольких «метрах» от бывшей российской столицы. Армия покатилась назад. И вот тут пришло время сказать о трагедии, постигшей Северо-Западную армию.
Под натиском превосходящих во много раз сил «красных», «белые» отступали на эстонскую территорию, не зная, что их там ожидает. Белогвардейцев стали разоружать. Но это ещё не страшно. Страшно то, что с ними стали поступать как с врагами. Арестовали даже самого Юденича, но его «выручили» французы. Остальных воинов бывшей Белой Северо-Западной армии выручать никто не собирался. Их стали загонять в тюрьмы и концлагеря, запросто убивали на улицах, притесняли как могли. По сути, это был эстонский геноцид русских. Но за них, как в своё время за армян, никто не подал голос в защиту: армия медленно вымирала в буквальном смысле слова. Говорят, эстонцы так поступили в обмен на обещанную большевиками независимость. Глупые! Пройдёт чуть больше двух десятилетий и от их независимости не останется и следа.
Оказавшись в эмиграции, Юденич отвергал предложения белоэмигрантов участвовать в антисоветской деятельности. Об этом хорошо знали в советской внешней разведке. Кто знает, может по этой самой причине Николай Николаевич Юденич, в отличие от Врангеля, умер своей смертью на 71-ом году жизни? Умер 5 октября 1933 года во французских Каннах. Сомнительно, чтобы он при этом, если бы дожил, последовал примеру генерала Шкуро. Поэтому, может быть, его прах, как и прах Деникина, следует перезахоронить в России, за которую он воевал в те страшные годы гражданской войны.
Фото из Интернета
Рецензии
хорошая статья. хотя бы тем. что пытается воскреснуть правде тех лет........ точно подмечена причина поражения армиии Юденича- троцкий...... и давайте не забывать, что армия Юденича была скорей всего православной, т.е. по факту имела суть своей - не убий невинного........ у троцкого был иной бог в ево душе..... по факту вся та война что никогда не была гражданской хотя бы потому что там не было братьев была тупой бойней.... кто кого убивал и убил или победил понятно и понятно почему...... это было как некое бешенство бешенных сил зла... замечательно, что тов. Сталин всю эту бешеную свору поубивал........ и тем спас страну
Но что бы и как ни было очень важна правда, хотя бы по материалам архивов