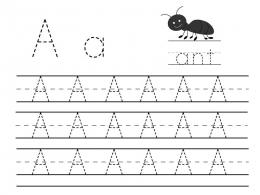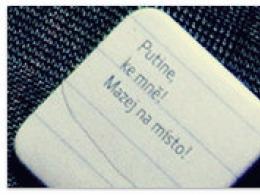Научная электронная библиотека. Эволюция понятия «София» в философии Вл
Значение слова СОФИЯ в Новейшем философском словаре
СОФИЯ
(греч. sophia - мастерство, знание, мудрость) - смыслообраз античной, а позднее христианской и в целом европейской культуры, фиксирующей в своем содержании представление о смысловой наполненности мира, полагание которой фундирует саму возможность философии как постижения преисполненного смысла мироздания (греч. philisophia как любовь, влечение к мудрости, генетически восходящее к philia - филия, любовь и sophia). Исходно в древнегреческой культуре термин "С." был соотносим с творчеством ремесленника - демиургоса, созидающего вещи, исполненные смысла, т.е. устроенные в соответствии с принципом, разумности и целями прикладной операциональности, что и обеспечивало возможность их продажи (см. у Гомера о С. обученного Афиной плотника в "Илиаде", XY). Античная философия фокусирует внимание на смыслообразующем аспекте С, которая определяется как "знание о сущности" (Аристотель) или "знание о первопричинах и умопостигаемой сущности" (Ксеио-крат), по-прежнему соотносясь с субъектом, но - в отличие от дофилософской традиции - не с субъектом деятельности, но с познающим субъектом. Однако древнегреческой философией (в лице Платона) осуществляется своего рода онтологический поворот в интерпретации С: последняя семантически связывается с трансцендентным субъектом космосозидания (Демиургом в отличие от ремесленника-демиургоса), выступая в человеческой системе отсчета в качестве интеллегибельной сущности. По формулировке Платона, С. есть "нечто великое и приличествующее лишь божеству" (Федр, 278 D), и Демиург творит мир в соответствии с извечным софийным эйдотиче-ским образом (Тимей, 29 а). Неоплатонизм обозначает термином "С." архитектонику эйдосов, которая "есть знание самой себя и С. самой себя, на самое себя направленная и самой себе сообщающая свойства" (Прокл). Исходный эйдо-тический образец С, однако, прозревается человеком в феноменологии вещей, открытой для постижения (платоновское "припоминание", например), позволяя говорить о мудреце именно как о любителе мудрости, т.е. о стремящемся к ней: восхождение к истине по лестнице любви и красоты (см. Платон), гносеологическая интерпретация Эроса у неоплатоников (см. Любовь) и т.п. Онтологический аспект С. выдвигается на передний план в религиозно-философских системах монотеизма. Так, в рамках иудаизма может быть зафиксирована идея софийного (эйдотического) образца (закона) как лежащего в основе творения как фундаментального творческого акта: "Бог воззрил на закон и сотворил мир" (Талмуд, Рабба Бер. 1. 1). Используя античную терминологию, можно сказать, что в рамках монотеистической традиции абсолютный образец, мудрость Божья в исходном своем бытии может быть обозначена как Логос; будучи же воплощена в Творении, Божественная мудрость выступает как С, плоть которой (материя, семантически сопряженная - от античности - с материнским началом) придает ее семантике женскую окрашенность: шехина в иудаизме как женская ипостась Бога и христианская С. В сочетании с характерной для теизма установкой на глубоко интимное, личностное восприятие Абсолюта, это задает персонификацию С, как женского божества, характеристики и проявления которого изначально амбивалентны: С. может быть рассмотрена в ее отношении к Богу и в ее отношении к человечеству, являя в каждой системе отсчета специфические свои черты. По отношению к Богу С. выступает как пассивная сущность, воспринимающая и воплощающая его творческий импульс (ср. с древнеиндийской Шакти - женским космическим началом, соединение с которым является необходимым условием реализации космотворческой потенции Шивы, - см. Тантризм). Однако, если восточная версия космогенеза предполагает в качестве исходной своей модели фигуру сакрального космического брака, сообщающего Шиве творческую энергию Шакти, то христианская С, сохраняя женский атрибут "многоплодной" креативности, практически лишается - в соответствии с ситемой ценностей аскезы - какой бы то ни было эротической семантики, которая редуцируется к таким характеристикам С, как "веселие" и свободная игра творчества (Библия, Прем., VIII, 30-37). Семантические акценты женственности, с одной стороны, и внесексуально-сти - с другой, задают вектор интерпретации С. как девственницы (ср. мотив соблюдения целомудрия как залога сохранения мудрости и колдовских сил в традиционной мифологии, деву Афину в классической и др.). С. рождается в мир, исходя "из уст Всевышнего" (Библия, Сир., 24, 3), будучи прямым и непосредственным порождением Абсолюта: С. выступает как "дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя" (Прем. Сол., 7, 25 сл.), фактически тождественное ему в мудрости и славе (ср. с рождением Афины из головы Зевса). Трактовка девственной С. как зачинающего лона по отношению в Богу приводит к последующему семантическому слиянию ее образа с образом девы Марии, непорочность и просветленность которой привносит в тварный мир смысл (эквивалентный приходу Мессии), придавая ему, таким образом, софийность (например, у немецкого мистика Г. Сузо (ок. 1295-1366), ученика Мейстера Экхарта). В обратной ситуации полного растворения Божественной сущности С. в тварном бытии, семантически изоморфного утрате девственности, возникает образ падшей С, как, например, в гностицизме, где С.-Ахамот, пребывая во мраке, несет в себе лишь отблеск гнозиса (знания, мудрости), и ее стремление к воссоединению с Богом выступает залогом тотальной гармонии Плеромы, семантически эквивалентной креационному мироустроению. Что же касается другой стороны С, то в отношении к человечеству она выступает как персонифицированное Божественное творчество: ветхозаветная С.-художница (Притч., 8, 27-31), смысловая наполненность творения. В контексте западного христианства культурная доминанта рациональности задает интерпретационный вектор, в рамках которого образ С. сближается с понятием логоса, во многом утрачивая свои внелогосные характеристики: например, С. как "бестелесное бытие многообразных мыслей, объемлющее логосы мирового целого, но при том одушевленное и как бы живое" (Ориген). В этой связи С. фактически лишается женской персонифицирован-ности, семантически отождествляясь в западном христианстве с Христом как Логосом - Иисус как "Божия слава и Божия премудрость" (1 Кор., 1, 24) - или даже с Духом Святым (монтанизм). Вместе с тем, в мистической традиции католицизма продолжают артикулироваться персонифицированно женские, внелогостные черты С, восходящие к ранней патристике. Так, у Беме термин С. выступает единственным залогом просветвления "темного" тварного мира: если земной, т.е. "плотский" мир мыслится Беме как "поврежденный" (порча духа при воплощении: запретный "плод был поврежден и осязаем...; таковое же плотское и осязаемое тело получили... Адам и Ева"), то единственным пронизывающим тварный мир светом выступает С. как "блаженная любовь", "мать души", "благодатная невеста, радующаяся о женихе своем". "Просветвленный человеческий дух" способен постичь и возлюбить ее (фило-София как служение Господу), ибо, постигая бытие, "он восходит к тому же точно образу и тем же рождением, как и свет в Божественной силе, и в тех же самых качествах, какие в Боге". Аналогично - у Г. Арнольда в протестантском (пиетизм) мистицизме. В философии романтизма образ С. приобретает новую - лирическую - аранжировку, сохраняя однако ключевые узлы своей семантики. Так, например, у Новалиса С. артикулируется в контексте аллегорического сюжета, практически изоморфно воспроизводящего базовые гештальты Писания: в царстве Арктура, олицетворяющего собою дух жизни, С. одновременно и "высшая мудрость", и "любящее сердце"; являясь супругой Арктура, она покидает его, дабы стать жрицей у алтаря истины в "своей стране" ("природе, какой она могла бы быть") с целью пробудить, дав ей сакральное знание, свою дочь Фрею, жаждущую духовного просветвления и подъема (наложение христианской семантики на фольклорную основу сюжета спящей девушки - см. Ананка). Это знание дает Фрее возмужавший Эрос, и С. воссоединяется с Арктуром, что символизирует собою всеобщее единство и гармонию ожившего царства: венок Арктура из ледяных листьев сменяется живым венком, лилия - символ невинности - отдана Эросу, "небо и земля слились в сладчайшую музыку" (семантика сакрального брака, имеющая креационный смысл). В аксиологической системе галантно-романтического посткуртуазного аллегоризма Новалиса С. фактически отождествляется с любовью ("- Что составляет вечную тайну? - Любовь. - У кого покоится эта тайна? - У Софии."), Абсолютной Женственностью (именно С. наделяет Эроса чашей с напитком, открывающим всем эту тайну) и Девой Марией (постижение тайны приобщает к лицезрению Великой Матери - Приснодевы). Синтетизм христианской аксиологии (акцент Марии), сюжетов языческой мифологии (засыпающая и воскресающая Фрея, мифологема Великой матери), сказочно-фольклорных мотивов (спящая красавица, тема любовного напитка), куртуазного символизма (голубой цветок, лилия, роза) и реминисценций классического рыцарского романа (изоморфизм образа С. образу королевы Гиньевры из романов Артуровского цикла) - делает семантику С. у Новалиса предельно поливалентной. Архаические языческие смыслы детерминируют и тот семантический пласт "Фауста" Гете, где в эксплицитной форме поставлен вопрос о С. как "вечной женственности", гармонии телесного и духовного начал, необходимой человечеству в качестве альтернативы, культурного противовеса тотальному интеллектуализму. Таким образом, в своем отношении к человечеству С. оказывается столь же фундаментально значимой, сколь и в своем отношении к Богу. Важнейшим аспектом С. в этом контексте является то, что будучи феноменом, онтологически относящимся к Космосу как целому, С. и с человечеством соотносится лишь как с целым, конституированным в качестве общности (общины). В западной культуре с ее доминантой логоса как воплощения рациональности это приводит к постепенной (начиная с Августина) идентификации С. с церковью, истолкованной в мистическом духе в качестве "невесты Христовой" (см., например, "Надпись на книге "Песнь песней" Алкуина: "В книгу сию Соломон вложил несказанную сладость: // Все в ней полно Жениха и Невесты возвышенных песен, // Сиречь же Церкви с Христом..."). В противоположность этому, в восточной версии христианства оказывается доминирующей именно парадигма внелогостной С, задавая аксиологически акцентированную ее артикуляцию: сам факт крещения Руси был оценен митрополитом Илларионом как "воцарение Премудрости Божьей". В православной культуре складывается богатая традиция иконографии С, в агиографической традиции христианства имя "С." относится также к мученице, казненной императором Адрианом (2 в.) вместе с тремя ее дочерями - Верой, Надеждой и Любовью, - что в аллегорическом переосмыслении делает С. матерью основных христианских добродетелей. Проблема теодицеи в контексте восточнохристианской культуры формулируется как проблема этнодицеи, и идея народа-богоносца тесно связывается с идеей софийности, задавая в русской культуре идеал соборности, в русской философии - традицию софиологии, а в русской поэзии - идеал Абсолютной Женственности, стоящий за конкретными воплощениями его в отдельных женских ликах (B.C. Соловьев, Я.П. Полонский, М.А. Волошин, Вяч. Иванов, А.К. Толстой, А. Белый, А. Блок и др.) В этом контексте реальная возлюбленная выступает как "живое воплощение совершенства" (А. Блок), - само же совершенство есть С, для которой всегда и изначально характерна божественная сопричастность ("Бог сиял в ее красе" у Я.П. Полонского). В силу этого, устремляясь к совершенству женщины, мужчина неизменно устремляется к С. как олицетворенному совершенству (в терминологии аллегоризма B.C. Соловьева - к "солнцу", "лучами" которого выступают живые женские лица): "Порой в чертах случайных лиц // Ее улыбки пламя тлело... // Но, неизменна и не та, // Она сквозит за тканью зыбкой" (М.А. Волошин). Именно С. ("Дева Радужных ворот" у B.C. Соловьева) может на путях любви (всеобщей сизигии) даровать душе воскресенье и благодать Божию. Но дьявольским наваждением выступает олицетворенный в Доне Жуане искус узреть самую С, а не тени ее ("Небесного Жуан пусть ищет на земле // И в каждом торжестве себе готовит горе" у А.К. Толстого). Между тем, для B.C. Соловьева метафорические окликания С. служат вехами на пути духовного совершенствования (символическая система поэмы "Три свидания", фактически конгруэнтная аналогической системе "Новой жизни" Данте), а "софийный цикл" стихотворений задает аксиологическое пространство, в рамках которого причастность С. выступает максимальной ценностью. Вынашиваемая B.C. Соловьевым мечта о единстве христианства была органично сопряжена в его воззрениях с мистической идеей непосредственной причастности Первосвященника, которого он мыслил как объединителя христианской церкви (а себя - как исполнителя этой миссии) к женской сущности С. М.А. Можейко
Новейший философский словарь. 2012
Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое СОФИЯ в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:
- СОФИЯ в Словаре-указателе имен и понятий по древнерусскому искусству:
(греч. премудрость), Премудрость Божия в ветхозаветных книгах Притчей Соломоновых, Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса, сына Сирахова, олицетворение высшей мудрости и … - СОФИЯ в Справочнике Городов и столиц мира:
БОЛГАРИЯ София - столица и крупнейший город Болгарии - расположена на южной окраине Софийской котловины у подножия живописного горного массива … - СОФИЯ в Словаре значений Цыганских имен:
(заимств., жен.) , в быту сокращ. до «Соня», ассоциируется с «Сонакай» - … - СОФИЯ в Словаре указателе теософских понятий к Тайной доктрине, теософском словаре:
(Греч.) Мудрость. Женский Логос гностиков; Вселенский Разум; и женский Святой Дух у … - СОФИЯ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". София (от греч., лат Sophia - мудрость) Столица Болгарии. См. София, город Женское имя. Предмет … - СОФИЯ в Большом энциклопедическом словаре:
столица Болгарии. Расположена на южной окраине Софийской котловины. Административный центр Софийской обл., самостоятельная административная единица 1,1 млн. жителей (1991). Транспортный … - СОФИЯ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
столица, крупнейший город, главный экономический и культурный центр Народной Республики Болгария. Занимает удобное географическое положение на путях, исстари проходящих по … - СОФИЯ СВЯТЫЕ
1) св. мученица, мать трех дочерей Веры, Надежды и Любви, после разных мучений усеченных мечом около 137 г., в Риме, … - СОФИЯ Г. в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
(болгарск. Средец, турецк. София) — столица Болгарского княжества, занимает весьма выгодное положение вблизи центра Балканского полуострова, посреди целой сети проезжих … - СОФИЯ СПБ. ГУБ. в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
часть г. Царского Села, С.-Петербургской губ. С., как самостоятельный город, основан имп. Екатериной II в 1780 г. Название свое получил … - СОФИЯ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
(Sophie, 1630—1714) — жена курфюрста ганноверского, дочь "зимнего короля" Фридриха V Пфальцского и Елизаветы Стюарт. Из дома своей жестокой матери …
греч. sophia - мастерство, знание, мудрость) - смыслообраз античной, а позднее христианской и в целом европейской культуры, фиксирующей в своем содержании представление о смысловой наполненности мира, полагание которой фундирует саму возможность философии как постижения преисполненного смысла мироздания (греч. philisophia как любовь, влечение к мудрости, генетически восходящее к philia - филия, любовь и sophia). Исходно в древнегреческой культуре термин "С." был соотносим с творчеством ремесленника - демиургоса, созидающего вещи, исполненные смысла, т.е. устроенные в соответствии с принципом разумности и целями прикладной операциональности, что и обеспечивало возможность их продажи (у Гомера о С. обученного Афиной плотника в "Илиаде", XV). Античная философия фокусирует внимание на смыслообразующем аспекте С., которая определяется как "знание о сущности" (Аристотель) или "знание о первопричинах и умопостигаемой сущности" (Ксенократ), по-прежнему соотносясь с субъектом, но - в отличие от дофилософской традиции - не с субъектом деятельности, но с познающим субъектом. Однако древнегреческой философией (в лице Платона) осуществляется своего рода онтологический поворот в интерпретации С.: последняя семантически связывается с трансцендентным субъектом космосозидания (Демиургом в отличие от ремесленника-демиургоса), выступая в человеческой системе отсчета в качестве интеллегибельной сущности. По формулировке Платона, С. есть "нечто великое и приличествующее лишь божеству" (Федр, 278 D), и Демиург творит мир в соответствии с извечным софийным эйдотическим образом (Тимей, 29 а). Античная парадигма гилеоморфизма связывает семантику С. с идеей воплощенного эйдоса или, соответственно, оформленной субстанции, что центрирует на феномене софийности как онтологию (наличное бытие как пронизанное С.), так и гносеологию (познание как прозревание воплощенного исходного замысла и сакрального смысла бытия в его софийности). В этом контексте неоплатонизм сдвигает акценты с традиционной для гилеоморфизма артикуляции воплощения в антропоморфном ключе (оформление материи-матери как оплодотворение ее логосом, внесение формообразующего эйдотического образца) в сторону креационной парадигмы: "софийное есть абсолютное тождество идеального и реального. Идеальное в сфере софийного не есть отвлеченное, оно превращается в особую форму, именуемую материальным. Реальное в софийном смысле не есть просто процесс реального, становление вещей, но... творчество" (Плотин). Соответственно этому, актуализируется и такое качество С., как рефлексивность, самоосознание себя как воплощающейся идеи: неоплатонизм обозначает термином "С." архитектонику эйдосов, которая "есть знание самой себя и С. самой себя, на самое себя направленная и самой себе сообщающая свойства" (Прокл). Исходный эйдотический образец С., однако, прогревается человеком в феноменологии вещей, открытой для постижения (платоновское "припоминание", например), позволяя говорить о мудреце именно как о любителе мудрости, т.е. о стремящемся к ней: восхождение к истине по лестнице любви и красоты (см. Платон), гносеологическая интерпретация Эроса у неоплатоников (см. Любовь) и т.п. Онтологический аспект С. выдвигается на передний план в религиозно-философских системах монотеизма. Так, в рамках иудаизма может быть зафиксирована идея софийного (эйдотического) образца (закона) как лежащего в основе творения как фундаментального творческого акта: "Бог воззрил на закон и сотворил мир" (Талмуд, Рабба Бер. 1.1). Используя античную терминологию, можно сказать, что в рамках монотеистической традиции абсолютный образец, мудрость Божья в исходном своем бытии может быть обозначена как Логос; будучи же воплощена в Творении, Божественная мудрость выступает как С., плоть которой (материя, семантически сопряженная - от античности - с материнским началом) придает ее семантике женскую окрашенность: шехина в иудаизме как женская ипостась Бога и христианская С. В сочетании с характерной для теизма установкой на глубоко интимное, личностное восприятие Абсолюта, это задает персонификацию С. как женского божества, характеристики и проявления которого изначально амбивалентны: С. может быть рассмотрена в ее отношении к Богу и в ее отношении к человечеству, являя в каждой системе отсчета специфические свои черты. По отношению к Богу С. выступает как пассивная сущность, воспринимающая и воплощающая его творческий импульс (ср. с древнеиндийской Шакти - женским космическим началом, соединение с которым является необходимым условием реализации космотворческой потенции Шивы). Однако, если восточная версия космогенеза предполагает в качестве исходной своей модели фигуру сакрального космического брака, сообщающего Шиве творческую энергию Шакти, то христианская С., сохраняя женский атрибут "многоплодной" креативности ("тело Божие, материя Божия" у В.С.Соловьева), практически лишается - в соответствии с системой ценностей аскезы - какой бы то ни было эротической семантики, которая редуцируется к таким характеристикам С., как "веселие" и свободная игра творчества (Библия, Прем., VIII, 30- 37). Семантические акценты женственности, с одной стороны, и внесексуальности - с другой, задают вектор интерпретации С. как девственницы (ср. мотив соблюдения целомудрия как залога сохранения мудрости и колдовских сил в традиционной мифологии, деву Афину в классической и др.). С. рождается в мир, исходя "из уст Всевышнего" (Библия, Сир., 24, 3), будучи прямым и непосредственным порождением Абсолюта: С. выступает как "дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя" (Прем. Сол., 7, 25 сл.), фактически тождественное ему в мудрости и славе (ср. с рождением Афины из головы Зевса). Трактовка девственной С. как зачинающего лона по отношению к Богу приводит к последующему семантическому слиянию ее образа с образом девы Марии, непорочность и просветленность которой привносит в тварный мир смысл (эквивалентный приходу Мессии), придавая ему, таким образом, софийность (например, у немецкого мистика Г. Сузо (ок. 1295-1366), ученика Мейстера Экхарта). В обратной ситуации полного растворения Божественной сущности С. в тварном бытии, семантически изоморфного утрате девственности, возникает образ падшей С., как, например, в гностицизме, где С.-Ахамот, пребывая во мраке, несет в себе лишь отблеск гнозиса (знания, мудрости), и ее стремление к воссоединению с Богом выступает залогом тотальной гармонии Плеромы, семантически эквивалентной креационному мироустроению. Что же касается другой стороны С., то в отношении к человечеству она выступает как персонифицированное Божественное творчество: ветхозаветная С.-художница (Притч., 8, 27-31), смысловая наполненность творения. В контексте западного христианства культурная доминанта рациональности задает интерпретационный вектор, в рамках которого образ С. сближается с понятием логоса, во многом утрачивая свои внелогосные характеристики: например, С. как "бестелесное бытие многообразных мыслей, объемлющее логосы мирового целого, но при том одушевленное и как бы живое" (Ориген). В этой связи С. фактически лишается женской персонифицированности, семантически отождествляясь в западном христианстве с Иисусом Христом как Логосом - Иисус как "Божия слава и Божия премудрость" (1 Кор., 1, 24) - или даже с Духом Святым (монтанизм), - ср. с высказанной в восточно-христианской традиции идеей С. как возможного четвертого лика Троицы (С.Булгаков, Флоренский). Вместе с тем в мистической традиции католицизма продолжают артикулироваться персонифицированно женские, внелогостные черты С., восходящие к ранней патристике. Так, у Беме термин С. выступает единственным залогом просветления "темного" тварного мира: если земной, т.е. "плотский" мир мыслится Беме как "поврежденный" (порча духа при воплощении: запретный "плод был поврежден и осязаем...; таковое же плотское и осязаемое тело получили... Адам и Ева"), то единственным пронизывающим тварный мир светом выступает С. как "блаженная любовь", "мать души", "благодатная невеста, радующаяся о женихе своем". "Просветленный человеческий дух" способен постичь и возлюбить ее (фило-С. как служение Господу), ибо, постигая бытие, "он восходит к тому же точно образу и тем же рождением, как и свет в Божественной силе, и в тех же самых качествах, какие в Боге". Аналогично - у Г.Арнольда в протестантском (пиетизм) мистицизме. В философии романтизма образ С. приобретает новую - лирическую - аранжировку, сохраняя, однако, ключевые узлы своей семантики. Так, например, у Новалиса С. артикулируется в контексте аллегорического сюжета, практически изоморфно воспроизводящего базовые гештальты Писания: в царстве Арктура, олицетворяющего собою дух жизни, С. одновременно и "высшая мудрость", и "любящее сердце"; являясь супругой Арктура, она покидает его, дабы стать жрицей у алтаря истины в "своей стране" ("природе, какой она могла бы быть") с целью пробудить, дав ей сакральное знание, свою дочь Фрею, жаждущую духовного просветвления и подъема (наложение христианской семантики на фольклорную основу сюжета спящей девушки). Это знание дает Фрее возмужавший Эрос, и С. воссоединяется с Арктуром, что символизирует собою всеобщее единство и гармонию ожившего царства: венок Арктура из ледяных листьев сменяется живым венком, лилия - символ невинности - отдана Эросу, "небо и земля слились в сладчайшую музыку" (семантика сакрального брака, имеющая креационный смысл). В аксиологической системе галантно-романтического посткуртуазного аллегоризма Новалиса С. фактически отождествляется с любовью ("- Что составляет вечную
тайну? - Любовь. - У кого покоится эта тайна? - У Софии."), Абсолютной Женственностью (именно С. наделяет Эроса чашей с напитком, открывающим всем эту тайну) и Девой Марией (постижение тайны приобщает к лицезрению Великой Матери - Приснодевы). Синтетизм христианской аксиологии (акцент Марии), сюжетов языческой мифологии (засыпающая и воскресающая Фрея, мифологема Великой Матери), сказочно-фольклорных мотивов (спящая красавица, тема любовного напитка), куртуазного символизма (голубой цветок, лилия, роза) и реминисценций классического рыцарского романа (изоморфизм образа С. образу королевы Гиньевры из романов Арктуровского цикла) делает семантику С. у Новалиса предельно поливалентной. Архаические языческие смыслы детерминируют и тот семантический пласт "Фауста" Гете, где в эксплицитной форме поставлен вопрос о С. как "вечной женственности", гармонии телесного и духовного начал, необходимой человечеству в качестве альтернативы, культурного противовеса тотальному интеллектуализму. Таким образом, в своем отношении к человечеству С. оказывается столь же фундаментально значимой, сколь и в своем отношении к Богу. Важнейшим аспектом С. в этом контексте является то, что будучи феноменом, онтологически относящимся к Космосу как целому, С. и с человечеством соотносится лишь как с целым, конституированным в качестве общности (общины). В западной культуре с ее доминантой логоса как воплощения рациональности это приводит к постепенной, начиная с Августина, идентификации С. с церковью, истолкованной в мистическом духе в качестве "невесты Христовой" (см., например, "Надпись на книге "Песнь песней" Алкуина: "В книгу сию Соломон вложил несказанную сладость: // Все в ней полно Жениха и Невесты возвышенных песен, // Сиречь же Церкви с Христом..."). В противоположность этому, в восточной версии христианства оказывается доминирующей именно парадигма внелогостной С., задавая аксиологически акцентированную ее артикуляцию: сам факт крещения Руси был оценен митрополитом Илларионом как "воцарение Премудрости Божьей". В православной культуре складывается богатая традиция иконографии С., в агиографической традиции христианства имя "С." относится также к мученице, казненной императором Адрианом (2 в.) вместе с тремя ее дочерями - Верой, Надеждой и Любовью, что в аллегорическом переосмыслении делает С. матерью основных христианских добродетелей. Особую артикуляцию понятие С. обретает в традиции русского космизма (в контексте парадигмы обожения природы) и "философии хозяйства": "природа человекообразна, она познает и находит себя в человеке, человек же находит себя в С., и через нее воспринимает и отражает в природу умные лучи Божественного Логоса, через него и в нем природа становится софийна" (Булгаков). Проблема теодицеи в контексте восточно-христианской культуры формулируется как проблема этнодицеи, и идея народа-богоносца тесно связывается с идеей софийности, задавая в русской культуре идеал соборности, в русской философии - традицию софиологии, а в русской поэзии - идеал Абсолютной Женственности, стоящий за конкретными воплощениями его в отдельных женских ликах (В.С.Соловьев, Я.П.Полонский, М.А.Волошин, Вяч. Иванов, А.К.Толстой, Белый, А.Блок и др.). В этом контексте реальная возлюбленная выступает как "живое воплощение совершенства" (А.Блок), - само же совершенство есть С., для которой всегда и изначально характерна божественная сопричастность ("Бог сиял в ее красе" у -Я.П.Полонского). В силу этого, устремляясь к совершенству женщины, мужчина неизменно устремляется к С. как олицетворенному совершенству (в терминологии аллегоризма В.С.Соловьева - к "солнцу", "лучами" которого выступают живые женские лица): "Порой в чертах случайных лиц // Ее улыбки пламя тлело... // Но, неизменна и не та, // Она сквозит за тканью зыбкой" (М.А.Волошин). Именно С. ("Дева Радужных ворот" у В.С.Соловьева) может на путях любви (всеобщей сизигии) даровать душе воскресенье и благодать Божию. Но дьявольским наваждением выступает олицетворенный в Дон Жуане искус узреть самую С., а не тени ее ("Небесного Жуан пусть ищет на земле // И в каждом торжестве себе готовит горе" у А.К. Толстого). Между тем, для В.С.Соловьева метафорические окликания С. служат вехами на пути духовного совершенствования (символическая система поэмы "Три свидания", фактически конгруэнтная аналогической системе "Новой жизни" Данте), а "софийный цикл" стихотворений задает аксиологическое пространство, в рамках которого причастность С. выступает максимальной ценностью. Вынашиваемая В.С.Соловьевым мечта о единстве христианства была органично сопряжена в его воззрениях с мистической идеей непосредственной причастности Первосвященника, которого он мыслил как объединителя христианской церкви (а себя - как исполнителя этой миссии) к женской сущности С. В современной философии тема С. (при отсутствии эксплицитного употребления соответствующего термина) подвергается радикальной редукции в рамках постмодернистской парадигмы. Это связано с программным отказом постмодернизма от классической метафизики, фундирующей ее идеей имманентного бытию смысла и основанной на этом презумпции референции. Если для традиционной философии, по оценке Фуко, была характерна тема "изначального опыта" ("вещи уже шепчут нам некоторый смысл, и нашему языку остается лишь подобрать его..."), то постмодернизм формулирует свою стратегию принципиально альтернативным образом: "не полагать, что мир поворачивает к нам свое легко поддающееся чтению лицо, которое нам якобы остается лишь дешифровать: мир - не сообщник нашего познания, и не существует никакого предискурсивного провидения... Дискурс, скорее, следует понимать как насилие, которое мы совершаем над вещами" в нарративных практиках означивания. (См. также Дискурс, Означивание, Нарратив.)
Отличное определение
Неполное определение ↓
СОФИЯ (греч. sophia - мастерство, знание, мудрость) - смыслообраз античной, а позднее христианской и в целом европейской культуры, фиксирующей в своем содержании представление о смысловой наполненности мира, полагание которой фундирует саму возможность философии как постижения преисполненного смысла мироздания (греч. philisophia как любовь, влечение к мудрости, генетически восходящее к philia - филия, любовь и sophia). Исходно в древнегреческой культуре термин "С." был соотносим с творчеством ремесленника - демиургоса, созидающего вещи, исполненные смысла, т.е.
София (Конт-Спонвиль)
СОФИЯ (SOPHIA). Теоретическая или созерцательная мудрость. Древние греки различали понятия sophia и phronesis, под последним подразумевая практическую мудрость, т. е. осмотрительность. Современные языки такого различия не проводят, и правильно делают: подлинная мудрость может быть только сочетанием той и другой.
Конт-Спонвиль Андре. Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. – М., 2012, с. 572.
София (Подопригора)
СОФИЯ [греч. … - мастерство, знание, мудрость] - понятие-мифологема античной и средневековой философии, связанное с представлением о смысловой наполненности и устроенности вещей. В дофилософском древнегреческом словоупотреблении София - разумное умение, реализующее себя в целесообразном творчестве.
Философский словарь / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. - Изд. 2-е, стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2013, с 407.
София (Филатов)
СОФИЯ - «премудрость, знание»; первоначально понятие древнегреческой философии, выражающее представление о смысловой благоустроенности космоса. Платон и Аристотель рассматривали Софию как объективно-смысловую и эстетическую организованность бытия, лишенную какого-либо личностного характера. В библейской традиции символ Софии получил значение Премудрости личностного Бога во всей ее сверхчеловеческой ясности и полноте. В Книге притчей Соломоновых София символизирует духовное влияние Бога на мир, подразумевая сложную систему взаимоотношений мира и Слова Божия, тварной реальности и промыслительных духовно-энергетических сил мироздания. При этом всякая мудрость человеческая мыслится только как тень Премудрости Божией. Христианская традиция начиная с апостольских времен отождествляет Софию - Премудрость Божию со вторым Лицом Пресвятой Троицы - Богом-Словом, Сыном Божиим Иисусом Христом. В Византии и позднее на Руси Софии посвящались наиболее величественные храмы.
Существо, содержащее в себе начала и идеальный прообраз мира; аналог Тары в буддизме и Матери Книги в исламе. В христианстве - Сам Христос , вочеловечившийся Бог-Слово. Однако в иудаизме и религиозной философии рассматривается иногда как олицетворённая мудрость Бога . Представление о Софии как о «Премудрости Божией» получило особое развитие в Византии и на Руси.
В русской религиозной философии XIX -XX веков учение о Софии развивали В. С. Соловьёв , С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский . Вл. Соловьёв определил «Софию Божества» как единую субстанцию Божественной Троицы , Её всеединство (фр. tout dans l’unite ), абсолютное единство , образующее мудрость, и - в противоположность Богу, как безусловно единому, - множественность , содержащую единого (осиленную им и сведённую к нему). То есть целый, живой организм, вечный как Бог. София Божества порождает бесчисленное множество возможностей и вновь поглощает их. Её действия начинаются в момент создания «мировой души ».
Её латинским именем «Сапиенция» был назван астероид , открытый в 1888 году.
Софиоло́гия (др.-греч. Σοφία - «Премудрость, Высшая Мудрость » и др.-греч. λόγος - «учение, наука »; в работах критиков этого учения также именуется Софианством или Софизмом ) - синкретическое религиозно-философское учение, включающее философскую теорию «положительного всеединства», понимание искусства в духе мистической «свободной теургии», преображающей мир на путях к его духовному совершенству, концепция художественного выражения «вечных идей» и мистическое узрение Софии как космического творческого принципа. Была изложена и развита русскими философами XIX -XX века : Владимиром Соловьёвым , Сергием Булгаковым , Павлом Флоренским , Львом Карсавиным и другими.
Софиологию на русскую религиозно-философскую почву привнёс Владимир Соловьёв . Он опирался как на библейские , так и на гностические тексты , на мистический опыт визионеров, на богослужебную и художественную практику православия и на собственные софийные видения и поэтические интуиции. В частности, он считал именно софийный аспект религиозного чувства русского народа наиболее самобытным в русском средневековом христианстве . Основы софиологии были изложены Соловьевым в работе «Начала вселенской религии». Своё дальнейшее развитие софиология получила в работах отца Павла Флоренского. Русская софиология представлялась ему разновидностью немецкого идеализма , своеобразным гностицизмом и вообще незаконным использованием философии для выражения христианских догматов. К числу видных изыскателей русской софиологии можно отнести и отца Сергия Булгакова , Николая Бердяева , Андрея Белого .
Софиология имеет некоторые явные параллели с антропософией , и даже ряд заимствованных из неё идей. Софиология предполагает постижение бытия как объективной духовной реальности, развитие духовного начала в человеке, позволяющего ему проникать в пределы непроявленного мира.
 Идея положительного всеединства
Идея положительного всеединства
Владимир Соловьев высказывает в своих философских рассуждениях идею положительного всеединства в жизни, знании и творчестве. Он пытается показать относительную истину всех начал и вскрыть ложь, происходящую от их обособленности. Всеединство, ещё не осуществленное в действительности, определяется по необходимости косвенным, отрицательным путем. Как верховный принцип, оно должно управлять нравственной деятельностью, теоретическим познанием и художественным творчеством человека,- отсюда разделение на этику, гносеологию и эстетику. «Великий синтез», о котором мечтает Соловьев, должен преобразить жизнь, реформировать общество, возродить человечество; поэтому в его системе этика занимает первое место. Основание своей концепции Соловьев выражает в обращении к Софии: «Велика истина и превозмогает! Всеединая премудрость божественная может сказать всем ложным началам, которые суть все её порождения, но в раздоре стали врагами её, - она может сказать им с уверенностью: «идите прямо путями вашими, доколе не увидите пропасть перед собою; тогда отречетесь от раздора своего и все вернетесь обогащенные опытом и сознанием в общее вам отечество, где для каждого из вас есть престол и венец, и места довольно для всех, ибо в дому Отца Моего обителей много».
Идея совершенного человечества
Владимир Соловьёв верил в человечество как реальное существо. С этим связана самая интимная сторона его религиозной философии, его учение о Софии. София есть прежде всего для него идеальное, совершенное человечество. Человечество есть центр бытия мира. И София есть душа мира. София, душа мира, человечество есть двойное по своей природе: божественное и тварное. Нет резкого разделения между естественным и сверхъестественным, как в католической теологии , в томизме . Человечество укоренено в Божьем мире. И каждый отдельный человек укоренен в универсальном, небесном человеке, в Адаме Кадмоне каббалы .
Человек является выражением падшей Софии, но одновременно София остается тем же первородным началом для человека. Таким образом, через сознательное усилие воплощения в себе высшего творческого начала, человек способен преобразоваться, как бы уподобиться божественному. Развитие данной концепции подразумевает воплощение Софии во всем человечестве, к чему должен привести процесс духовной эволюции индивида.
 Религиозный концепт софиологии
Религиозный концепт софиологии
Алексей Хомяков считал, что словом «соборность» слово «католичество» заменили еще Просветители славян Кирилл и Мефодий . Он даже усматривал в этом некоторый высший смысл. Так, оппонируя иезуиту князю Ивану Гагарину , Хомяков утверждал, что несмотря на отсутствие текстов символа веры, современных Кириллу и Мефодию, текст символа дошёл до XIX века именно от этих братьев, и именно они предложили использовать слово «соборная» (а не «католическая») в отношении церкви.
«Естественно возникает вопрос: существовало ли на Славянском языке слово, вполне соответствующее понятию всеобщности? Можно бы привести несколько таких слов, но достаточно указать на два: всемирный и вселенский. <…> Первое из приведенных слов (всемирный) встречается в очень древних песнопениях; древность второго (вселенский) также несомненна; оно употребляется, говоря о Церкви, для выражения ее всеобщности (вселенская Церковь) и говоря о соборах (Вселенский собор - concile oecuménique). Итак вот к каким словам прибегли бы первые переводчики для передачи слова кафолический, если б они придавали ему значение всемирности. Я, разумеется, нисколько не отрицаю, что слово καθολικος (из κατὰ и ολα, с подразумеваемым ἔθνη - народы, или другим однородным существительным) может иметь и значение всемирности; но я утверждаю, что не в таком смысле было оно понято Славянскими первоучителями. Им и на мысль не пришло определить Церковь географически или этнографически; такое определение, видно, не имело места в их богословской системе. Они остановились на слове соборный, собор выражает идею собрания не только в смысле проявленного видимого соединения многих в каком либо месте, но и в более общем смысле всегдашней возможности такого соединения, иными словами: выражает идею единства во множестве.»
Когда А. Хомяков обращается к понятию «соборности», он фактически превращает более-менее удачный переводческий термин в инструмент идеологии. Этот шаг находится в русле наиболее востребованных для XIX века стратегий рациональной легитимации - легитимации через апелляцию к истории как субстанции бытия: именно историческая приверженность Руси к соборности определяет ее особую миссию и судьбу. Однако, по всей вероятности, следует говорить о том, что именно специфическое понимание соборности выступало одной из составляющих новой культурной идентичности, сформировавшейся в XIV-XVII вв., а именно идентичности российской. Религиозную природу и значимость этой идентичность и отстаивает А. Хомяков в своем творчестве:
«В Протестантстве свобода для целой общины есть свобода постоянного колебания, свобода всегда готовая взять назад приговоры, ею же произнесенные накануне, и никогда не уверенная в решениях, произносимых нынче. Для отдельного лица, столь же мало верующего в общину, сколь мало сама община верит в себя, свобода есть или свобода сомнения, проявляющаяся в том, кто, зная себя, сознаёт свою немощь, или свобода нелепой веры в себя, проявляющаяся в том, кто творит себе кумир из своей гордости. В том и другом виде это пожалуй тоже свобода, но иного рода, свобода без благословения Божия, свобода в смысле политическом, но не в смысле христианском.
Единство истинное, внутреннее, плод и проявление свободы, единство, которому основанием служит не научный рационализм и не произвольная условность учреждения, а нравственный закон взаимной любви и молитвы, единство, в котором, при всем различии в степени иерархических полномочий на совершение таинств, никто не порабощается, но все равно призываются быть участниками и сотрудниками в общем деле, словом - единство по благодати Божией, а не по человеческому установлению, таково единство Церкви»
 Последующее использование термина
Последующее использование термина
Принадлежащая Алексею Хомякову концепция соборности, таким образом, представляет собой идеологию российской государственности и не случайно стала одним из источников движения славянофилов. В духе этой концепции идея соборности понималась в русской религиозной философии, в частности у Сергея Булгакова , который говорил, что Соборность - это «душа православия». Впрочем и сам термин «соборность», несущий в себе существенную религиозную нагрузку, и традиция его философской интерпретации (Хомяков и последователи) имели широкое хождение и влияние в православной части Европы и из области собственно интеллектуальной перекочевали в политический дискурс. Иоанн Ладожский под соборностью понимал «единство народа в исполнении христианского долга»
Белую лилию с розой,
С алою розой мы сочетаем.
Тайной пророческой грёзой
Вечную истину мы обретаем...
Чистой голубке привольно
В пламенных кольцах могучего змея...
В.С. Соловьёв
Естественным явлением для русского Ренессанса стало обращение к идее Софии. Именно в ней заключались чаяния, надежды многих русских философов на установление на земле богочеловечества и Царствия Божьего. Сама идея обожения человечества на земле, духовное преобразование всего тварного предполагала развитие представлений о некой сущности, способной воедино связать, слить божественное и сотворённое бытие. «Поддерживая живую связь между тварным миром и миром абсолюта, София пронизывает собой всю духовную культуру, направленную на установление этой связи». Причём в идее Софии русские мыслители стремились показать то начало в человеке, которое можно назвать Божеским, заданным человеку априорно, в его предсуществовании, т.е. в мыслях Бога. Все рациональные концепции в софиологии оказались бессильными объяснить идею Софии. Как справедливо отмечает польский исследователь И. Малей, логика и системность в софиологических исследованиях не приносят существенных результатов.
В русской религиозно-философской мысли тема Софии получила весьма неоднозначную оценку. Надо признать, что в православной среде к идее Софии относятся с опасением и даже скептицизмом, подчас называя её еретической и вводящей в заблуждение. «Стремление заслониться от света воплощённого Бога-Слова умозрительными конструкциями, насытить сладострастие мысли калейдоскопом символов... - вот та общая родовая основа, которая объединяет скрытые и явные формы иконоборчества с неоплатоническим гностицизмом. И отвлечённая идея Софии - самое характерное выражение подобных прелестных состояний духа...», - вот так выражает своё отношение к идее Софии Н. Гаврюшин. Многие богословы считают: философы идеей Софии, которая является весьма туманным, неопределённым образом и столь же неопределённой идеей, пытаются подменить ясный лик Богочеловека Иисуса Христа. В учении С. Булгакова была предпринята попытка органично связать идею Софии с православным вероучением. Представления С. Булгакова о Софии являют собой пример русского Ренессанса, характеризующийся поиском глубинных оснований для самодостаточного бытия человека, идеей самозаключённости человека, независимости его от Бога. В центре учения С. Булгакова София стоит рядом с человеком, ибо он является единственным её носителем, потенциальным её выразителем, что даёт ему право на преобразование тварного бытия. Безусловно, тот факт, что София - премудрость производная от Бога - заложена в природе человека, указывает на его связь с Богом, но эта связь исключительно метафизична, она выделяет человека из физического мира, но сводит его сущность в основном к наличию в нём софийности и, следовательно, способности, согласно замыслу Бога, изменять мир. По сути, С. Булгаков рассмотрел лишь один аспект природы человека, проигнорировав остальные стороны его бытия. Наконец, С. Булгаков допустил ряд существенных догматических ошибок, поэтому говорить о его софиологии как о полностью православном учении не представляется возможным. Кроме того, в софиологии С. Булгакова есть множество незаконченных мыслей, которые оставляют широкий диапазон для толкования идеи Софии, а вместе с ней всего православного вероучения. Это весьма точно подметил В.Н. Лосский: «Всему свойственно развиваться: то, чего не договорил учитель, может договорить ученик, может прийти к выводам, от которых с ужасом старается отклониться учитель».
Конечно, понятие Софии часто встречается в святоотеческой литературе, однако отцы Церкви не рассматривали идею Софии в качестве центральной и самостоятельной. Так, Феофил Антиохийский перечисляет Божественные имена, среди которых называет Разум, связанный с предусмотрительностью; Дух, связанный с дыханием; Мудрость, т.е. Софию, связанную с плодами Его деятельности; Силу, означающую энергию.... Вместе с тем нельзя сводить всё Божественное лишь к качествам мудрости, любви, добра. Безусловно, Бог является источником этих благ, но отнюдь не заключён только в них. В.Н. Лосский справедливо замечает: «Конечно, Бог мудр, но не в банальном смысле мудрости купца или философа. И Его премудрость не есть внутренняя необходимость Его природы. Имена самые высокие, даже имя «любовь», выражают Божественную сущность, но её не исчерпывают. Это - те атрибуты, те свойства, которыми Божество сообщает о себе...». Так или иначе, но становится объективным то, что понятие Софии, выражающее мудрость, является лишь одним из свойств Бога. Однако во второй половине XIX и начале ХХ столетий в русской мысли философы и богословы достаточно часто обращались к идее Софии. В философии понятие Софии развивал В.С. Соловьёв, поставивший в своём учении идею Софии в качестве центральной; а в богословии - П. Флоренский, за что коллегами и был подвергнут святоотеческой критике. Если свести в несколько слов представление о Софии в трудах П. Флоренского, то можно сказать, что София - это обожившаяся тварь. В общем-то, в таком суждении нет ничего предосудительного и, казалось бы, ошибочного, тем более, что человек призван к обожению через стяжание Святого Духа. Однако, если мудрость - это только один из атрибутов Бога, то не ограничиваем ли мы меру обожения человека, не уменьшаем ли мы смысла в стяжании Святого Духа?.. Наконец, при данном подходе к пониманию Софии не рискуем ли мы прийти к мудрецу, не знающему, что такое любовь и добро? Всё же именно идея Софии стала одной из основополагающих в русской религиозной философии периода Серебряного века. Уместно поставить вопрос: почему русские мыслители обратились именно к идее мудрости, а не, скажем, к идее силы, любви или Разума?
Конечно, можно утверждать, что мудрость включает в себя и любовь, и добро, и силу, но также правомерно сказать, что мудрость, с точки зрения добра и любви, бывает и бессильной, и нейтральной. В любом случае нет прямых, объективных, однозначных доказательств обеих позиций. Здесь остаётся лишь предположить причины становления идеи Софии в качестве одной из центральных и самостоятельных в философии Серебряного века.
В первую очередь, обращает на себя особое внимание то, что образ Софии был прямо связан с идеей женственности. В философии обращение к данной теме - это закономерное явление. Н.А. Бердяев пишет: «Женщина более связана с душой мира, с первичными стихиями, и через женщину мужчина приобщается к ним». Так же, как в эпоху Ренессанса в Европе, чувство эротичного и прекрасного задавало ход и направленность мысли человека, так и в русском Ренессансе переживание любви к девушке, к женщине стало основой для поиска в человеке начала совершенства. Страшно представить, но, возможно, Н.А. Бердяев прав, утверждая, что «гениальность насквозь эротична... Гений может жить специализированной сексуальной жизнью, он может предаваться и самым крайним формам разврата, но гениальность в нём будет вопреки такому направлению половой энергии, и в его родовой стихии, в его рождающем поле всегда неизбежен трагический надлом». Именно в период Серебряного века русские философы, такие как В.С. Соловьёв, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, задаются вопросами о сущности и смысле любви. Причём чувство любви рассматривалось не только в религиозно-богословском контексте, но и в духовно-человеческом, охватывающим как высшие нравственные, так и инстинктивные чувства.
Да, именно такая постановка вопроса о любви должна была сложиться в период Ренессанса в России, ибо человек силой своего духа, своей воли, подчинённой принципам Библии, призван был установить свою власть над собственной биологической природой и над той природой, которая его окружала. Подчиняясь воле Божьей, стяжая Святой Дух, человек обретает своё утраченное естество и способность деятельно преобразовывать мир. Направив же свою биологическую составляющую на служение высшим духовным задачам, человек вступает в брак с девой и обретает свою полноту, дающую ему бессмертие и власть, санкционированную Богом. Потому-то следует однозначно утверждать то, что целомудрие, в величии и благородстве которого видна святость брака между мужчиной и женщиной, является одним из человекообразующих качеств, важнейшим условием для пребывания в Боге. Пока индивид живёт вне Бога, он оторван от полноты собственной природы, а мир, в котором живёт и хозяйничает человек, подчинён закону тления и смерти, ибо оторван от Божьей благодати. «Адам должен был превзойти эти разделения (разделения на небесный и земной миры, на мужской пол и женский (примеч. авт.) сознательным деланием, соединить в себе всю совокупность тварного космоса и вместе с ним достигнуть обожения. Прежде всего, он должен был чистой жизнью, союзом более абсолютным, нежели внешнее соединение полов, преодолеть их разделение в таком целомудрии, которое стало бы цельностью. На втором этапе он должен был любовью к Богу... соединить рай с остальным земным космосом: нося рай всегда в себе, он превратил бы в рай всю землю... Наконец... совершилось бы обожение человека и через него - всего космоса». В этих словах заключена основная цель жизни человека - обожившись самому, спасти весь мир и всякое живое существо в нём. В отношении того, что лишь человек, как потенциально разумное существо, может спасти мир, правомерно вспомнить слова В.Н. Лосского, который пишет: «Мир... можно было бы назвать «антропосферой». И эта антропокосмическая связь образа человека с его Первообразом - Богом; ибо человеческая личность... не может претендовать на обладание своей природой,... но она обретает свою полноту, которая отдаёт эту свою природу, когда принимает в себя вселенскую и приносит её в дар Богу».
Итак, сила чувства ответственности за мир обратила человека к обострённым представлениям о женском начале, которые в православной среде привели к идее Софии. Полагаю, что отождествление женского начала с мудростью в какой-то мере архетипично. Так, К.Г. Юнг в работе «Mysterium Coniunctionis. Таинство воссоединения» замечает, что в алхимической традиции женское начало связывалось с мудростью и материей, а мужское - со Святым Духом или с дьяволом. Действительно, женщина пассивна, но она должна быть мудрой, ибо от её выбора зависит, кто будет её супругом: мужчина, вбирающий в себя начало либо Святого Духа, либо дьявола. Человечество же, приходя в сей мир через женщину, оказывается зависимым от её мудрости или отсутствием таковой. Поэтому-то этот мир может спастись лишь тогда, когда девушки, женщины будут благочестивы, прекрасны и мудры. Эта идея сложилась ещё в иудаизме, где в третьей книге Торы, в Левите, пишется: «Не оскверняйте дочерей своих и не допускайте их до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом» (Левит, 19: 29). Именно девушка ответственна за чистоту рода и чрез неё семья охраняется от скверны, бесчестья и утверждает свою духовную жизнеспособность. Потому в Левите и прописывается, что «если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего; огнём должно сжечь её» (21: 9). Конечно, такие жёсткие, даже жестокие, меры наказания не свойственны христианству, но подчёркивают то, насколько дохристианский мир заботился о своём земном (естественном) состоянии, которое в значительной мере зависело от женского начала. Именно в последнем определяется первооснова святости или греховности физического бытия. Сама по себе девушка есть тварь Божия, но, стяжая Святой Дух, она выбирает и мужчину, в котором также есть Святой Дух. Воплощение идеи Софии - это есть мудрая дева, святая и благородная. София - это не есть мадонна в европейском Ренессансе, ибо таковая есть светская женщина, оторванная от Божьей благодати, самозаключённая в себе самой или даже в метафизически замкнутом воображении художника. София же есть путь, по которому спасается не только отдельно взятый человек, но и последующие поколения, наконец - всё человечество. Более того, в Софии отражены основные ипостасные черты человеческой природы. Именно женщина, которая создана Богом через человека-Адама, должна была стать выражением ипостаси человека в его земном бытии. Немаловажно и то, что понятия женщина , женственность в религиозном сознании людей с языческих времён архетипично стали отождествляться с земным началом, и обращение к матери-земле является вполне естественным для языческого мира, в частности славянского. Женское начало особо чувствительно, а поэтому с языческих времён символизирует земное бытие. Чувственность же, не способная к развитому интеллектуальному мышлению, пассивна и, даже если и отличает добро от зла, не в силах волевым актом противостоять последнему. Поэтому чувственность женского начала нуждается в рассудке и разуме активного мужского начала, поэтому стремится вжиться в него, задавая вектор работы его сознания. Кризис мессианской культуры, неверие мужчины в свои духовные силы заставило последнего обратиться к образу женщины, которая вобрала в себя божественную мудрость, объединив в себе одной чувственность и разумность, тем самым став своеобразной энтелехией мира сего. Этим вживанием разумности в материальный мир чувственность обретает силу волевого, сознательного акта, преобразуется в мудрость, что позволяет человеку разумно сосуществовать с миром материи и даже совершенствовать последний. Поэтому-то женское начало, вобравшее в себя единство чувства и разума - мудрость, - стало мыслиться как основа спасения бытия.
В любом случае человек через отношение к прекрасному полу, сохраняя всю полноту своей природы, чистоту души, устраивает собственную жизнь сообразно воле Божией, как единственно разумному началу в высшем смысле этого слова. Хотелось бы изложить собственные представления о Софии в своём стихотворении «Софии»:
Совершенная, благословенная,
Среди вещей святая, надмирная.
Ты сохраняешь свежесть небесную,
Держишь в нетленности истину вечную.
Вмиг сотворённая святость великая,
Сила и счастье в Тебе, Солнцеликая.
Власть над землёй у Тебя непременная
Служит спасеньем для мира столь тленного.
Здесь, на земле, чрез Тебя мир спасается,
Но вне Тебя ход времён начинается,
Ибо Ты создана в мыслях божественных,
Чудо прекрасное средь тел вещественных.
Дух в Тебе Божий живёт неизменчиво,
Любит Тебя, шепчет речи доверчиво,
В этих речах тайны света небесного,
Давшего жизнь здесь от взгляда невестного.
Через Тебя Дух на землю спускается
И от Тебя к Господу возвращается,
И в Тебе мудрость Его сохраняется,
Мыслью Твоей бытие освящается.
Ты - сила света, пример благочестия;
Жду Богодевы златого пришествия.
Собственно говоря, идея Софии естественным образом возникла в русской среде, где представления о мессианстве русского народа в деле спасения всех людей были особенно остры. Когда же такие представления получили философское осмысление, то София стала пониматься не в богословском контексте, т.е. не как свойство Бога, а как конкретная дева - обоженная тварь, - чрез которую Адам проявит себя как божий сотворец. Вот потому-то Н. Гаврюшин и сетует на то, что, если ранее София понималась в контексте Христова Образа, то ныне София и Христос отделены друг от друга. Н. Гаврюшин в «Сказании о образе Святыя Софии» вспоминает такие слова: «Нози имать камени. (Рече бо Христе) на сем камени созижду Церковь мою». Однако, как он пишет, в первоначальной редакции слова «на сем камени...» скорее можно было считать исходящими от Софии-Христа, теперь же Христос и София как бы разведены...».
Однако при таком подходе к Софии, при осмыслении её вне религиозного контекста, возникает следующая опасность: Христос один, а вот девушек много. Если мы говорим о мудрости, т.е. софийности в качестве свойства, атрибута Бога, то этим мы подчёркиваем Личность Бога. Если же София отождествляется с женским началом, то становится непонятным: о ком идёт речь. К большому сожалению, не все девушки понимают важность работы над своей духовностью, и лишь некоторые представители прекрасной половины человечества ведут богоугодную жизнь. Поэтому-то идея Софии приводит к обезличиванию человека, вырождению представлений о личности. В основном, мыслители и поэты, черпавшие духовные силы из источника прекрасного женского образа, посвящали свои труды конкретным женщинам, в которых видели либо Софию, либо Прекрасную Даму. Например, В.С. Соловьёв многие свои стихи посвящал Анне Николаевне, которая, кстати, по мнению ряда исследователей, действительно поверила в то, что является живым воплощением Софии. Что же, может так оно и было... в её понимании. Однако отметим: очень хорошо, когда мужчина уважает, любит, обожает женщину, посвящает ей стихи, говорит ей, что она - само совершенство; но в большинстве случаев выглядит как-то странно, если она, и правда, верит в то, что является идеальной.
Итоги постулирования идеи Софии в русской культуре были подведены, например, в художестве Н. Рериха, на картинах которого изображённые женщины не имеют ясного, открытого лица - все они безликие, выражающие некую идею мудрости, направленную не к совершенствованию отдельно взятого человека, а на его подчинение какому-то неизвестному закону, управляющему бытием. Эти картины есть возврат от православия и образа единого Бога к дохристианскому язычеству и единому безликому закону роты, к некоему Брахману. Мир, отражённый на полотнах Н. Рериха, лишён полноты жизни и личностного начала, это мир механистический, над которым властвует единый закон бытия, отягощённый неизбежной смертью.
Согласно взглядам ряда русских мыслителей, именно через Софию идея святости по своей основе должна будет воплотиться и утвердиться в материи, преодолевая дуализм идеи, находящейся в метафизическом мире Бога, и вещами, развивающимися в мире физических явлений. Идея Софии была воспринята русской мыслью в свете учения В.С. Соловьёва о богочеловечестве, но по своему существу оказалась лишь прелестью, подкупающей своей чистотой и возвышенностью, надеждою на то, что все люди будут святыми и на земле установится Царство Божие. В действительности, она явилась существенной предпосылкой к тому, чтобы вытеснить личностное начало в христианской культуре через свою всеобщность, распространенность на всех людей. Идея Софии в русской философии стала всего лишь одной из попыток наделить смертного человека атрибутом божественного, который, как показалось некоторым мыслителям, наиболее близок к человеческой природе , более остальных выражает содержание и потенциал последней. По сути же произошло то, что человек перестал воспринимать своё происхождение как дар Бога, прельстился мыслью о том, что он способен жить самостоятельно и устраивать своими силами мир, соизмеримый с миром Бога. Вместе с тем, человек, живя среди себе подобных, решивший, что для него мудрость естественна по собственной природе, не пожелал признать за другими людьми право быть такими же мудрыми. Такое восприятие себя в общественной среде, во-первых, неизбежно вело к ложному самопревозношению, ибо истинная мудрость присуща лишь Богу; во-вторых, могло стать основой для принятия ницшеанского учения о сверхчеловеке. Однако идею Софии разрушило то, что в бытии естественно-физического мира единоначалие человека среди себе подобных оказалось фантастичным и утопичным, а главное, стало стремлением утвердить равенство людей в свете разрешения, или санкционирования, для них слабости и признания за ними права на смертность в качестве естественного их состояния. Индивид, уяснивший, что софийность может быть присуща не только Богу, но и ему самому, причём не по силе Святого Духа, а по его собственной человеческой природе, сможет решить, что его земное состояние не только естественно, но и единственно правильное. А данная установка окажется для человека оправданием для собственного нежелания трудиться над своим духовным обликом, непреодолимой преградой между земным и божественным миром.
Наконец, есть и другая грань прелести идеи Софии в том контексте, который предлагается в учениях Вл. Соловьёва и С. Булгакова. Если София призвана объединить в себе небесный и земной миры, преобразовав последний по образу первого, то уместно поставить вопрос: как мир, находящийся не просто во власти естественного закона, но во власти беса, будет подчинён человеку? Здесь человек фактически стремится противопоставить свои силы силам беса. Сама идея борьбы одинокого человека с бесом вызывает недоумение, а у святых даже ужас. Так, один чудесным образом исцелившийся верующий как-то заметил Серафиму Саровскому, что желает побороться с бесами. На это желание Серафим ответил: «Что вы, что вы, ваше Боголюбие! Вы не знаете, что вы говорите. Знали бы вы, что самый маленький из них своим когтем может перевернуть всю землю...». Это самоутверждение своих человеческих сил, основанное на их сопоставлении с бесовскими, предполагало то, что индивид, самостоятельно победив лукавого, не просто спасёт себя и мир, но ещё и утвердит себя как человекобога. Однако в случае неудачи индивид окажется почти полностью зависимым от тёмного начала. Возможно, поэтому С. Есенин в 1923 году напишет такие строки:
...Розу белую с чёрной жабой
Я хотел на земле повенчать...
За такое прельщение собственными силами человек «отправляется в край иной» с чувством собственного бессилия и одновременно в поисках своей зависимости не от тёмного начала, а только от светлого.
...Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.
В конечном итоге, обществу, прельщённому построить рай на земле лишь своими силами, а посему, отрёкшемуся от Бога, пришлось вообще отказаться от образа Бога, стать атеистическим. Это было проще, нежели покаяться или жить с чувством предательства Иуды. Одновременно с отречением от Бога появилась возможность отвергнуть и идею бытия беса. Потому-то М. Назаров заметил, что СССР проиграл «холодную войну» потому, что отказался от метафизического бытия, в то время, как государства-члены НАТО смогли стать победителями в силу того, что не отрицали духовного мира, но вместе с тем выбрали сторону сатаны Такой отказ от всякой духовности в метафизическом смысле явился естественным результатом той прелести, которую породил образ Софии, толкнувший человека на самостоятельную борьбу со злом.