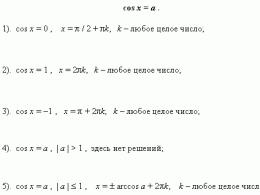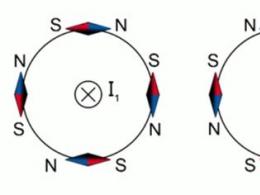Грех, вина и чувство вины. Как от них избавиться? Самоукорение и невротическое чувство вины
Депрессия, попытки самоубийства, беспричинная тревога и страхи - нередко с этими тяжелыми проблемами люди обращаются к психологу. Чтобы помочь пациенту, специалист должен понять причину его страданий. И нередко этой причиной оказывается оставшееся нераскаянным, часто глубоко запрятанное чувство вины. Грех без покаяния, совершенный в прошлом, прорастает в настоящем душевной трагедией. И человек часто не понимает: за что? А лекарство, оказывается, совсем близко.
Человек имеет многовековойопыт вины. Еще в раю Адам обвинил Еву в соблазне, Ева обвинила змея в искушении. С первого греха грешники пытаются переложить свою вину на другого. Каждый из нас так или иначе познает это мучительное чувство: мы содеяли нечто, что не должно было быть содеянным, переступили некий закон, который знает наша совесть. За годы своей клинической практики я наблюдала странный феномен: явную растерянность психологов перед виной как неискоренимым симптомом серьезнейших патологий и расстройств.
Каких только теорий и методик ни разработано, каких только научных трудов ни написано, а чувство вины по-прежнему продолжает тревожить человеческий разум и психику. Классический фрейдовский психоанализ, на мой взгляд, едва ли справился с задачей, предложив сомнительное «лекарство от чувства вины» - оправдание ее поступками других людей, и прежде всего родителей. В современной поп-психологии, особенно западной, распространены теории и практики, призванные любыми путями повышать человеческую самооценку.
Считается, что люди должны перестать судить себя и ощущать свою значимость независимо ни от поступков, ни от обстоятельств. Предполагается, что человеку предназначено удовлетворять свои нужды («Я заслужил, потому что я существую»), а потому никакой вины и быть не может. Некоторые идут еще дальше, объявляя вину ошибочной эмоцией, и предлагают попросту уничтожить «зону вины» навсегда, как бесполезный опыт, как нечто постыдное и негативное. Результатом попыток «залечить» или «аннулировать» вину стал рост числа людей с хронической депрессией, состояниями патологической тревоги, неврозов, психозов, самоубийств.
Не прекращает увеличиваться и число тех, кто пытается утопить «вину в вине» или убежать от нее в наркотический угар. Часто люди сами приходят к психотерапевту, чтобы враз избавиться от мучительного чувства, и, нередко открываясь в своих нравственных падениях, ждут услышать, - что всегда есть что-то или кто-то - муж, жена, родители, дети, трудное детство, общество, нехватка денег и т. д., что вынудило их совершить дурной поступок, нарушить моральный закон. Словом, вина за содеянное лежит совсем не на них, а значит, и никакой ответственности. Но формальное оправдание греха в кабинете психотерапевта имеет только временный эффект, и то в редких случаях. Неосознанная и непризнанная вина, как скрытый нарыв, продолжает вести свою разрушительную работу в человеке.
Достаньте скелет из шкафа
Вот несколько примеров из моей практики. Пациент Михаил К. (настоящие имена людей изменены), 45 лет, две попытки самоубийства, сменил несколько психотерапевтов, много лет страдает депрессией, неконтролируемой тревогой, бессонницей, с людьми агрессивен, ненавидит женщин. Был кратковременно женат, друзей нет, ни на одной работе не задерживался больше полугода. После нескольких недель психотерапии выявился корень его проблем - глубоко запрятанное чувство вины перед матерью.
В подростковом возрасте, в ссоре, Михаил толкнул ее к стене. После неудачного падения мать надолго заболела, и сын, не выдержав обстановки, ушел из дома. Вернулся через три года, когда матери уже не было.
Другой пациент, Борис А., 64 года, в прошлом - преуспевающий бизнесмен, руководитель крупной фирмы, разведен, страдает подавленным состоянием, раздражительностью и резкими перепадами настроения. На первом же сеансе признался в неконтролируемом страхе смерти. Единственный сын живет в другом городе, не виделись и не общались больше двадцати лет. После нескольких месяцев терапии распознал свою главную проблему - запрятанное чувство вины перед сыном, которого всю жизнь третировал и унижал за то, что тот не оправдал отцовских надежд, не выучился и не стал большим человеком и опозорил его имя, избрав рядовую профессию плиточника.
Еще один пример. Дина С., 40 лет, страдает тяжелой формой депрессии, хронической тревогой, страхами, звуковыми галлюцинациями - постоянно слышит детские голоса. Живет одна, трудно сходится с людьми (по ее словам, бежит от них, как бы боясь какого-то разоблачения (признак паранойи). Страшная саморазрушающая сила и тотальный внутренний террор владели ею большую часть жизни. Понадобилось полгода интенсивной терапии, прежде чем душевный нарыв прорвался и она рассказала, что в 18 лет оставила годовалого ребенка человеку, с которым в то время жила, и убежала с другим. Рассказывая свою трагическую историю, выплеснувшуюся из нее как застоявшаяся вода из запруды, она призналась: «Я долго пыталась оправдать себя, думала, ведь я была еще ребенком. Но теперь осознала, что ребенком была моя дочь, а я была матерью». Все эти судьбы и многие другие, похожие на них, объединяет одно - чувство вины, запрятанное в самые глубины существа. Часто, заботясь о благополучии внешнего фасада, мы даже не подозреваем, какую страшную разрушительную работу ведет червь задавленной вины в нашей душе.
В этих судьбах присутствует и нечто другое, очевидное для меня как для православного психолога, - полное отсутствие любви. Больше того, необъяснимый страх перед всяким ее проявлением. Каждый из них реагировал почти неадекватно на мой простой вопрос: есть ли в их жизнях люди, которых они могли бы по-настоящему любить?
Бывают ли без вины виноватые?
Что скрывает пластырь самооправдания
Наш нравственный идеал есть не что иное, как наша совесть, хранящая в себе Божий Закон о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо. У нас всегда есть выбор - залепить ее пластырем самооправдания или же открыть наши душевные раны, уверовав в их исцеление. Первое сделать, несомненно, проще. Даже если поначалу наша совесть, мучимая грехом и смутой, сопротивляется и требует очищения от грязи, вторая, третья и последующие попытки приглушить эти порывы даются нам все легче. Холодеет сердце, циничнее становится ум, и душа подает все меньше признаков жизни.
От всего этого недалеко и до самого губительного исхода - духовного разложения личности и духовной смерти. За вину - эту нераскрытую душевную рану - многие из моих пациентов заплатили дорогую цену: годами отчаяния и болезни. В своей практике, работая с людьми несчастными и неприкаянными, я постоянно наблюдаю эту тонкую грань, за которой человеческая жизнь может погрузиться в непролазный мрак, если в ней отсутствует свет веры. Вина и прощение - постоянные темы моих бесед с людьми во время психотерапевтических сеансов. И тем из них, кто не отвергает веру, а пытается найти к ней свой путь, всегда легче дается осознание важной правды, что, когда мы нарушаем законы, написанные в нашей совести, мы - виноваты, независимо от того, чувствуем ли мы себя виноватыми или нет. Когда же мы искренне каемся, нам прощается, даже если мы не чувствуем себя прощенными.
Вина, чувство вины и конфликт, порожденный этим чувством, - духовная потеря. И потому искать ее разрешения надо в духовной жизни человека, в вере. Как православный психолог, я стараюсь прежде всего полагаться на веру в самом процессе терапии. Когда люди осознают свою ответственность за содеянное, они сами ищут очищение через раскаяние и глубокое сожаление. И только тогда - через боль и радость - в человеческую душу начинает приходить мир, только тогда наступает исцеление.
Одна из моих бывших пациенток, когда-то в молодости сделавшая семь абортов и оставшаяся без детей и без семьи, пришла к покаянию через страшные душевные муки. Непрестанная молитва о душах ее нерожденных детей, о ниспослании им Божьего света и милости зародила в ней надежду к новой жизни. Как говорил святитель Димитрий Ростовский, покаяние восстанавливает падшую душу, делает ее из отчужденной - дружественной Богу; покаяние ободряет душу истерзанную, укрепляет колеблющуюся, исцеляет сокрушенную, делает здоровой уязвленную.
Бесплатный дар
В «Преступлении и наказании» Ф. Достоевского Соня Мармеладова просит Раскольникова покаяться в убийстве: «- Встань!.. Поди сейчас же, сию минуту. Стань на перекресток, поклонись, поцелуй землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету и скажи вслух: я убил. И тогда Бог опять тебе жизни пошлет… Эка такую-то муку нести! Да ведь целую жизнь, целую жизнь!.. - Привыкну, - проговорил он угрюмо…» Раскольников не привык. И после многих лет мытарств и душевных страданий, уже в остроге, пришел к вере. Какие бы теории и механизмы человек ни придумывал в борьбе с виной, рано или поздно они перестают работать. И наступит минута, когда, наконец, замолкнет внешний шум и суета, которыми мы пытаемся заглушить голос совести, и тогда в глубоком молчании мы услышим горькую правду: «Я переступил… Я ослушался Бога». Раскаяние невозможно без смирения и кротости. Осознание того, что лично я, как человек, слаб и не в силах сам разрешить свою вину, современному человеку дается нелегко: мешает наша раздутая до гигантских размеров гордость. Усмирить ее - большая победа. Древние говорили: из двух человек, первый из которых победил войско, а второй - себя, победителем вышел второй. Бог знает нашу вину, но верит в нашу способность очищения.
Очищение не происходит на уровне интеллекта, но совершается в сердце. Часто мы прячем душевные травмы глубоко, как ужасный секрет, который не можем поведать даже близким, боясь потерять их любовь или уважение («если они узнают “это” обо мне, они перестанут меня любить»).
Вера - и в этом я, как православный психолог, убеждаюсь ежедневно, разбивает эту опасную концепцию, порождающую отчуждение. Истинная любовь безоговорочна и безусловна. Потерять ее невозможно. Раскаянная вина лишь восстанавливает наше единство с Богом. Покаяние - Божий дар, нам, каждому из нас данный безвозвратно и бесплатно. Как мы воспользуемся этим даром: предадим забвению по неудобству и ненадобности или бережно понесем по жизни, - нам решать. Психотерапия может быть полезна на первом этапе пробуждения личности, когда человек учится различать свои правдивые и ложные чувства, мотивацию поступков, причины конфликтов, преодолевать недоверие и страх, осознать и выговаривать вину.
Настоящее же очищение происходит в более высоких духовных сферах, и я всегда советую своим пациентам искать его в общении с Церковью. Двери Божьего храма открыты. Это наш выбор - пройти мимо, утешая свою совесть, или войти внутрь и предстать со своей виной перед Богом, Единственным, кто истинно может утешить нашу боль. Один воин спросил старца: «Принимает ли Бог раскаяние?» Старец ответил: «Если у тебя порвется плащ, выбросишь ли ты его?» Воин говорит: «Нет! Я его зашью». -«Если ты так щадишь свою одежду, то не пощадит ли Бог cвое творение?»
Наталья Волкова
православный психотерапевт
Одно из фундаментальных понятий христианства, и мы постоянно слышим, читаем, произносим это слово. Но есть другое слово - «вина». В церковном обиходе, в религиозной своей жизни мы слышим его гораздо реже, чем слово «грех»; создается впечатление, что слово «вина» не из церковного словаря. Что есть вина? По сути, это внешний результат, следствие нашего греха, и еще - наш долг, зачастую неоплатный. Мы принесли ущерб другим людям, мы стали причиной их страданий, через нас в мир вошло некое «количество» зла. Даже если у нас есть возможность как-то пострадавшим от нас людям воздать, хотя бы извиниться перед ними - кто вернет им то время, те жизненные силы, которые отняты принесенной нами болью? Даже если эти люди нас простили - а некоторые из них склонны прощать в силу родственной любви, - должно ли нам самим от этого стать легче? А как часто бывает, что возможности загладить вину у нас нет, содеянное непоправимо, долг неоплатен - совсем.
Одна женщина - тонкая, чуткая, глубоко верующая - убеждала меня в том, что по раскаянии нашем и вина изглаживается, раны, нанесенные нами, заживают, а если пострадавший от нас человек уже на том свете - тогда и вовсе не надо переживать: ему хорошо, а если плохо, то не по нашей уже вине. После первой своей исповеди я спросила священника, так ли это. Священник ответил: надеяться на это позволительно, но вот уверенности, успокоенности не может быть.
У кого точно не может быть успокоенности, так это у тех, кто хотя бы невольно (если вольно, то это другой разговор) стал причиной смерти. Как журналист, я знаю несколько случаев, когда виновники трагедий, вызванных неосторожностью, непредусмотрительностью, неумением обращаться с оружием и т.п., сами кончали с собой. Вряд ли стоит эти случаи здесь рассказывать. Скажу лишь, что забыть этих людей я не в силах и что в каждом из них я вижу себя: со мной такого не было, но ведь могло быть! Минутами кажется: чтобы жить самой, мне нужно найти какие-то убедительные доводы для убившего себя человека, какие-то основания для того, чтобы сказать ему: «Живи».
Церковь в этих случаях говорит именно «живи»: самоубийство христианину запрещено. Но, призывая человека к жизни, она ведь не может не отвечать на вопрос: «Как теперь жить?» И она отвечает на этот вопрос, о какой бы вине, смертельной или несмертельной, мы ее ни спрашивали. Не надо думать, что ответа на вопрос о жизни с виной у христианства нет.
Прежде всего - чего мы ищем, чего хотим, спрашивая, как нам жить? Мы хотим, чтоб нам стало легче; мы ищем покоя, может быть даже комфорта. Иными словами - возможности спокойно спать. Но святые отцы Церкви не искали себе покоя, не рассчитывали на него. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно открыть обычный молитвослов: «Кое убо не содеях зло, кий грех не сотворих в души моей…» (преподобный Симеон Метафраст). Это отношение к содеянному злу совершенно противоположно распространенным психотерапевтическим советам «оставить прошлое прошлому»; забыть о том, чего уже не исправишь; не изводить себя «попусту». Святой не может и не хочет забыть о содеянном им зле. Он предпочитает видеть свою земную жизнь такой, как она есть. Для чего? Для того, чтобы очищать себя покаянием. Это возможно только представляя себя реально. Мы, сегодняшние, просто не можем обойтись без чувства собственной положительности; не можем, кажется, существовать, не причисляя себя мысленно к светлой части человечества: «У меня, конечно, есть недостатки, и я кое-что в жизни сделал не так, но в целом-то ведь я хороший человек. Ну не такой же я, как всякие там мерзавцы!» А ясное видение содеянного, память о нем выводит нас из этого фарисейского состояния.
 |
Никому, конечно, такого креста не пожелаешь, но мне кажется, что человек, сбивший кого-то машиной и по-настоящему это переживающий (переживают не все, многие и здесь себя оправдывают), никогда уже не сотворит зла сознательно. Никогда не будет жесток, черств, высокомерен. Конечно, близким жертвы от этого ничуть не легче, но я и не пытаюсь смягчить ситуацию - она действительно страшна. Однако тот, кто стал ее причиной, - погибнет, если отвернется от нее, найдя способ себя оправдать или просто сумев забыть; и спасется, если примет весь ее ужас до конца.
 |
Да, это не на стенку проекция, не на экран какой-то - на души человеческие, на судьбы; это помощь горькая, страшная, но кто ж виноват, что иной помощи мы не принимаем, голоса Божиего, в тайне звучащего, не слышим?
Чем больше вина, тем меньше оставляет она человеку ложных выходов, боковых дорожек; раздавленный огромной виной человек с неизбежностью должен понять, что путь у него теперь один - вверх, к Тому, Кто сказал разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23: 43).
Мне известны (тоже как журналисту, как судебному репортеру) люди, неспособные принять этот евангельский эпизод. Как же так: резал-резал людей, грабил-грабил на дорогах, а потом сказал несколько слов - и в рай! Где справедливость?
А она - в словах разбойника Благоразумного, разобравшегося наконец в происходящем: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал» (Лк. 23: 41). Вот как говорил об этом разбойнике святитель Иоанн Шанхайский в одной из своих проповедей:
«Глядя на Него, разбойник словно очнулся от глубокого сна. Ему ясно представилось различие между Ним и им самим. Тот - несомненный Праведник, прощающий даже Своим мучителям и молящийся за них Богу, Которого называет Своим Отцом. Он же - убийца многих жертв, проливавший кровь людей, не сделавших ему никакого зла.
Взирая на Висевшего на кресте, он словно в зеркале увидел свое нравственное падение. Все лучшее, что таилось в нем, пробудилось и искало выхода. Он осознал свои грехи, понял, что к печальному концу привела его лишь собственная вина и винить ему некого. Посему злобное настроение против исполнителей казни, каковым был охвачен разбойник, распятый по другую сторону от Христа, а вначале и он сам (см.: Мф. 27: 44), сменилось в нем чувством смирения и сокрушения. Он почувствовал страх грядущего над ним суда Божия.
Отвратителен и ужасен стал для него грех. В душе он уже не был разбойником. В нем проснулись человеколюбие и милосердие. Со страхом за участь своей души в нем сочеталось отвращение к происходившему надругательству над невинным Страдальцем».
Разбойник не вошел бы в райскую обитель, если бы забыл о том, что творил. Он вошел именно потому, что помнил.
Церковь, кстати, чтит не одного Благоразумного разбойника - многих; один из них - святой мученик Моисей Мурин. Его житие поражает - именно мученическим концом. Смерть от руки напавших на монашескую обитель разбойников он принял как желанную для себя расплату, как закономерное и необходимое следствие тех убийств, которые совершил сам. Как подтверждение Христовых слов: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26: 52). Вот что делает с человеком память о вине.
«Вспоминать все это зло, которое я совершил в те годы, мне всего тяжелее… Весь этот кошмар… карамазовская грязь… Все это было при отсутствии у меня христианской веры…» - это из дневника , профессора-химика, духовного писателя, подвижника, тайного просветителя обездоленной советской России. В молодости он был большевиком, комиссаром, служил в ЧК. А затем всю жизнь был движим великим раскаянием.
Но может ли обычный, далекий от аскетических подвигов человек чисто психологически выдержать эту тяжесть - постоянную память о вине? Способен ли он пребывать в таком напряжении изо дня в день? Ему ведь нужен отдых, нужно какое-то приемлемое самочувствие, и сон, в конце концов, нужен спокойный - чтобы не сгореть…
О сне в молитвах вечернего правила говорится не раз: «И неосужденна ныне сном уснути сотвори», «мирен сон и безмятежен даруй мне», «…да с миром лягу, усну и почию…» В какой-то момент меня, что называется, осенило: не о том здесь речь, чтоб нам хорошо выспаться, но о том, чтобы мы, не имеющие на самом деле права на необходимый нам покой, получили его по милости Божией - именно потому, что не можем без него обойтись. И это касается не только сна - всей нашей повседневной жизни. Наша вина не отнимает от нас права на осенний лес, на весенний воздух, на морской прибой, на дружбу и любовь, на творчество и познание. Потому что это все дает нам - Он. И мы плохо поступим, если не примем Его дара.
За каждой литургией мы слышим - покаянный вопль, вырвавшийся из груди царя-псалмопевца после того, как пророк Нафан указал ему на его страшную вину. По-настоящему вслушавшись в этот текст, человек удивляется. Чего просит Давид, погубивший честного и доблестного Урию из-за похоти своей? Он просит того, что после такого поступка представляется невозможным: радости . «Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя» (Пс. 50: 14). Но разве смог бы Давид просить себе радости, если бы не увидел без всяких прикрас и самооправданий - и глубину своего падения, и ужас его последствий для других людей?
Как мы знаем, покаяние способно и более того - должно преобразить нашу жизнь. Но задумывались ли мы над тем, как именно преобразить?
Если после покаянных молитв и исповеди на душе легко и радостно, возросла благодарность Богу, прибавилось желания и сил бороться с грехом, прибавилось любви к людям - значит, мы действительно каемся.
Если после покаянных молитв и исповеди мы остаемся в унылом, замкнутом состоянии, то это значит, что мы не каемся: скорее всего, покаяние подменено у нас ложным чувством вины. Ложное чувство вины лишает нас возможности покаяния и тем самым становится тормозом на пути нашей духовной жизни.
Признаки ложного чувства вины
Давайте рассмотрим признаки наличия у нас ложного или невротического чувства вины более подробно.
1. Почти постоянное чувство уныния.
Легкую степень уныния мы редко замечаем в себе. Признаки его - лень к делам спасения. Нам трудно заставить себя читать утреннее и вечернее молитвенное правило, поститься, воздерживаться от телесных наслаждений (у кого-то это - сладости, у кого-то - винопитие, у кого-то - смотрение телевизора или фильмов, блуждание в интернете, вариантов много).
2. В нашем «покаянии», а точнее, в чувстве вины не видно просвета. Оно неисчерпаемо.
Покаяние подобно мытью посуды. Чем больше моешь - тем посуда более чистая, сверкающая, красивая. А «делание» чувства вины не приносит ни малейшего улучшения состояния. Даже после исповеди нет никакого облегчения и успокоения, только лишь чувство выполненного долга: неприятная процедура позади.
3. Отсутствует подлинное чувство Божиего милосердия.
По книгам, по историям других людей, мы, конечно, знаем о милосердии Бога, мы знаем о земном подвиге Спасителя. Но все это как бы не касается непосредственно нас. В своей печали о своих грехах мы одиноки, Бог не помогает нам.
4. Трудно переносим критику.
Вот как говорит об этом психотерапевт Карен Хорни: «Одновременно с заявлениями о том, что он недостойный человек, невротик будет предъявлять огромные претензии на внимание и восхищение и обнаружит весьма явное нежелание соглашаться даже с малейшей критикой… Его чувствительность к причине может прикрываться мыслью, что переносима лишь дружеская критика или носящая конструктивный характер. Но эта мысль является только? и противоречит фактам. Даже дружеский совет может вызвать гневную реакцию, ибо совет любого рода предполагает критику в связи с некоторым несовершенством».
Такой человек может возмутиться даже обличениям со стороны духовника, если духовник говорит о грехах, выходящих за рамки списка, представленного кающимся.
При этом такой человек зачастую тщеславится мелкими грехами, упоминаемыми им на исповеди, которыми он показывает духовнику свою особую внимательность к духовной жизни и чувствительность к прегрешениям.
5. Гордыня, отсутствует смирение.
Кроме непереносимости критики, у человека, страдающего ложным чувством вины, присутствуют и все прочие признаки гордыни: тщеславие, уныние, ропот и тревога в моменты испытаний, осуждение других людей и др.
6. Неосознанная жажда наказаний.
Человек, страдающий от невротического чувства вины, сам не сознавая того, ищет наказаний, поскольку наказание частично освобождает его от груза грехов, который он не способен сбросить с себя подлинным покаянием, а также является подтверждением справедливости его чувства вины.
Проверяя себя на основе этих пунктов, необходимо помнить, что любая болезнь, в том числе и психологическая, может присутствовать в нас в разной степени, и тут не действует тот же подход, что при простуде: если простуда слабая, пройдет сама. Душевные болезни стоит брать во внимание и лечить, даже если они присутствуют в слабой степени, потому что усилия по их преодолению куда меньше, чем те проблемы, которые они создают нам - как в духовной жизни, так и просто на уровне душевного благополучия.
Свойства подлинного покаяния
Хотя эта брошюра - для людей грамотных в духовной жизни, все-таки для целостности повествования напомним основные свойства подлинного покаяния.
1. Покаяние основано на чувстве собственного бессилия в одиночку победить грехи и страсти.
2. Покаяние неразрывно связано с чувством Божиего милосердия и Его готовности помочь и простить в тот же момент, как мы покаялись.
3. Покаяние основано на сознании Божиего всемогущества, в особенности освобождать нас от власти бесов (страстей).
4. Покаяние сопряжено с чувством надежды на спасение. Прекрасно сказал об этом преподобный Иоанн Лествичник: «Падающий сокрушается, и хотя бездерзновенен, однако с похвальным бесстыдством предстоит на молитве, как разбитый, на жезл надежды опираясь и отгоняя им пса отчаяния».
5. Покаяние приносит чувство облегчения, мир души и содействует победе над теми грехами, которые мы исповедуем.
Природа ложного чувства вины
В основе ложного чувства вины - эгоцентризм. То есть человек подсознательно видит себя, а вовсе не Бога, центром мироздания и причиной всего с ним происходящего. Отсюда естественным образом вытекают две проблемы:
Невозможно каяться, ведь каяться можно перед кем-то высшим, а выше меня никого нет;
Никто не поможет, потому что я главнее всех и только сам себе могу помочь.
Такой человек находится в безвыходной ситуации. Он видит часть своих пороков и неудач, но поделать с этим ничего не может, так как в глубине души не признает ни своего бессилия, ни силы и милосердия Бога.
Психология связывает эгоцентризм с инфантилизмом. Вот как говорит об этом священник и психолог Андрей Лоргус: «Ребенок по природе своей чувствует себя центром мироздания, центром всего. Такое осознание себя для ребенка естественно. Психолог Жан Пиаже назвал это эгоцентрическим сознанием (не путать с эгоистическим). Ребенок до пяти лет убежден, что все видят мир так же, как и он. Представить себе, что другой человек видит иное, мысленно встать на позицию другого человека, ребенок не умеет. Только после пяти у него формируется реалистическое мышление и сознание, и он от эгоцентризма переходит к реализму. Беда заключается в том, что мы одной частью своей личности взрослеем, а другая у нас может оставаться инфантильной. Как правило, инфантильные, детские структуры личности сохраняются в эмоциональной сфере и сфере отношений».
Причина формирования инфантильности - та же, что и причина любовной зависимости, осуждения, неприятия себя - недостаток принимающей любви родителей. Причем, поскольку проявления неприятия могут быть разными, здесь те люди, с которыми жил ребенок, по всей видимости, увлекались обвинениями ребенка. «Видя таких людей, я сразу себе представляю строгую мать или сурового отца, которые наказывают своего ребенка. Или очень строгую воспитательницу детского сада, или учительницу, которая стоит в позе осуждения и обвинения и указывает этому несчастному малышу на то, что он испачкал свой костюм или наследил на полу, или разбил кружку, вазу или сделал еще что-нибудь» - говорит отец Андрей Лоргус. Психолог Елена Орестова: «Тебя ставят на стол и заставляют читать стих, а ты этого не делаешь, и тебя за это потом очень сильно ругают и говорят: «Плохая девочка».
Так маленького человека приучают к тому, что он виновен во всем том, с чем он, на самом деле, не имеет объективной возможности справиться самостоятельно. Этим же самым в нем воспитывают гордыню, потому что как бы говорят ему: «Ты можешь все, ты всемогущ».
И с этим воспитанным старшими чувством всемогущества и вины за все человек выходит во взрослую жизнь. Последствия его проблемы проявляются не только в отношениях с Богом. Преувеличивая собственную значимость, он склонен видеть несуществующую взаимосвязь между своим поведением и поведением других людей. «Ты чего такой молчаливый? Что я опять не так сделала?» - спрашивает жена у мужа, у которого проблемы на работе. Такой человек живет в постоянном страхе неодобрения и обвинений со стороны окружающих людей и поэтому живет несвободно, часто не делая того, что ему хочется делать, только из-за страха перед мнением людей.
Исцеление от ложного чувства вины
Как исцелиться от невротического чувства вины, в какой бы степени оно у нас ни присутствовало? Многое можно сделать и без непосредственной помощи психолога.
1. Исцеление отношений с родителями.
Как вы, возможно, уже догадались, поскольку основной причиной проблемы является недостаток принимающей любви родителей, основной рецепт тот же, что и в предыдущих двух главах - «Усыновить родителей» (подробно изложен в первой главе). Особое внимание постараемся уделить тому, чтобы самим не обвинять родителей (даже мысленно) ни в чем, и к их обвинениям в наш адрес относиться не как к проявлениям недовольства Вселенной нами, а как к слабости страдающих людей.
2. Приближение к реализму через рассуждение.
Эгоцентризм удалил нас от реального восприятия мира, рассуждение поможет нам воспринимать вещи более реально, трезво. Для этого раз за разом, много раз в день, усилием ума и воли будем напоминать себе о том, как обстоят вещи на самом деле.
Первое. Мы не всемогущи. Более того, без Бога мы очень слабы и не имеем никаких шансов побеждать свои слабости, вообще - жить как следует.
Второе. В центре мироздания не мы, а Бог, сотворивший этот мир, столь же близкий к каждому человеку, как и к нам, и устраивающий различные внешние обстоятельства жизни к нашему спасению.
Третье. Бог милосерден и рядом с нами и прощает нас уже в тот момент, когда мы искренне, от сердца просим о прощении с сознанием своей слабости и необходимости Его помощи нам.
Четвертое. Наша роль в жизни вселенной и других людей ничтожна. У каждого человека тысячи разных мотивов, и даже для близких людей мы не являемся единственным предметом их дум и объектом их чувств. Вообще мы по большому счету никому по-настоящему не нужны, кроме Бога. Соответственно, и за свою жизнь и за свое душевное состояние другие взрослые люди отвечают сами, а мы отвечаем только за себя и в значительной мере - за своих детей.
3. Контроль своего душевного состояния.
Мы должны постоянно отслеживать свое душевное состояние, сделав его мерилом правильности нашей духовной жизни. Если мы унываем, испытываем тревогу или страх, мы не должны называть это «скорбью о грехах» и мириться с этим состоянием. Должны искать и исправлять ошибки, которые вызвали это наше нездоровое состояние. Если не находим, пусть это будет для нас только еще одним поводом вспомнить о том, как мало зависит от нас и как сильно мы нуждаемся в помощи милосердного Бога. Не оставлять борьбы с унынием до тех пор, пока оно не будет побеждено.
4. Борьба с гордыней
Борьбе с гордыней и тщеславием (наряду с обретением радости) необходимо уделить основное внимание в своей духовной жизни. В святоотеческой литературе эта тема детально изложена, если подзабыли, можете обновить в памяти методику этой борьбы с помощью сайта www.ioann.ru.
Дмитрий Семеник. «Психологические проблемы как препятствия на пути духовной жизни и их преодоление». |