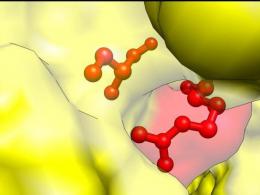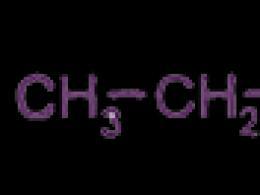Ф. М
Мурад Мусаев
Впервые я увидел её в полупустом вагоне метро на фоне стен, исписанных арабо-французскими стихами. «Наверное, она красива», - думал я, не сводя глаз с того места, где из-за книжной обложки вот-вот должно было показаться её лицо. Она читала Вольтера.
Мы ехали уже несколько минут. Я смотрел в её сторону так, будто пытался увидеть сквозь преграду, но, к сожалению, я не рентген, а она никак не хотела отнять книгу от лица. Спустя секунды, когда на очередной остановке открылись двери, она огляделась и на мгновенье посмотрела в мою сторону поверх книги. Я поймал её взгляд. Всё. На этом занавес был вновь задернут, и я продолжал глазеть на книжную корку: «Бог и люди. Вольтер».
Мы подъехали к следующей станции, и я пристально посмотрел в её сторону. Но двери открылись, закрылись, поезд тронулся, а книга осталась на месте. «Где-то ты должна будешь выйти», - подумал я и стал терпеливо ждать.
В какой-то момент, уже после того, как я проехал свою остановку и поезд подходил к станции «Опера», в противоположном конце вагона повздорили два алжирца. Один из них держал в руках бумажник и что-то кричал во всё горло. Возможно, тот, что молчал, пытался выудить кошелёк у второго, был пойман с поличным и выслушивал нотацию о том, что такое есть землячество и как это нехорошо - красть у брата своего. А может, они оба были карманниками, и тот, что постарше, отчитывал молодого: мол, один кошелёк за весь день - это слишком скудная добыча и потому будешь сегодня на сухом пайке.
Пока я рассматривал эту сцену и распределял роли, вагон остановился, я обернулся, и её уже не было…
Я бросился к закрывающимся дверям, с трудом протолкнулся наружу, метнулся вверх по лестнице к Гранд Опера, огляделся, забежал обратно, пробежал по переходу… - бесполезно, её уже нигде не было. Она растаяла, не оставив следа.
Весь день до этого я шатался по блошиному рынку на Порт де Клиньянкур в поисках литографий для Анри - моего работодателя. Он держал небольшую галерею, в которой почти не было продаж, запасники его были забиты эстампом, но он всё равно жаждал новых покупок. «Придёт время, - говорил он, - и ты удивишься тому, как быстро опустеет наш склад». Моя задача была в том, чтобы собрать все работы русских эмигрантов начала 20 века, какие только можно было найти у частных продавцов и на рынках в окрестностях Парижа. Сегодня я ничего не нашёл. Старая галеристка из Швейцарии, правда, обещала мне привезти несколько отпечатков Василия Кандинского и Надежды Ходасевич-Леже, но только «через неделю-другую». «Что ж, вряд ли бум, которого терпеливо ждёт Анри, произойдет раньше этого», - подумалось мне. Как бы то ни было, день был потрачен впустую.
А вечер мне испортили Вольтер и два беспокойных алжирца. Как обычно в таком настроении, я решил идти домой пешком. Поздним январским вечером, под мокрым снегом, на грани заморозков, от Оперы до Рю де Мессажри. Пешком.
Стоял первый ясный день марта. Анри пораньше закрыл галерею, и мы устроили себе праздник весны в ближайшем бульварном кафе (все равно покупателей ждать не приходилось). И, как обычно, после обеда я решил прогуляться по городу. Пройдя через весь Латинский квартал, я перебрался на правый берег и сам не заметил, как дошел до площади Бобур. «Ну уж дошел, так дошел», - подумалось мне, и я решил пройтись по музею в Центре Помпиду. (Каким бы нелепым ни казалось это здание, его содержимое стоило того, чтобы потратить здесь добрых пару часов). Весной, в начале туристического сезона, у Центра всегда толчея, и мне предстояла очередь из нескольких десятков человек.
И вот я стою, подтанцовываю под мелодию здоровенных туб, в которые дуют здоровенные африканцы (точнее говоря, переминаюсь с ноги на ногу, потому что все-таки март, а не май на дворе). И вдруг, на самом нелепом па, я встречаюсь взглядом с девушкой, стоящей внутри музея прямо перед витражным стеклом. Она, как вкопанная, смотрит на меня, будто мы знакомы, а потом отводит взгляд и быстрым шагом уходит прочь к лестнице.
Следующие пятнадцать секунд я медленно понимаю, что она - та самая читательница Вольтера из метро Опера, которая испортила мне один январский вечер и заняла мысли ещё на несколько недель. Под недовольный гул я проталкиваюсь к дверям вне очереди и, без билета, пробегаю к музейным залам. Проношусь вверх по лестнице мимо контролёра - в холле её нет, я врываюсь в зал кубистов - нет, к импрессионистам - нет, к инсталляциям обкуренных авангардистов - и здесь её нет.
Охрана нагнала меня у лестницы, ведущей в библиотеку. За пять минут они расспросили меня обо всём на свете, кажется, поверили в мою историю, но войти в положение не захотели (тоже мне, самая романтичная нация на свете). Еще через несколько минут я уже спускался вниз по эскалатору с внешней стороны здания. В сопровождении пятерых.
Еду в отчаянии. За стеклом ютятся туристы, молодые художники, студенты. Проезжаю пятый этаж, четвёртый, библиотеку с кучей никому ненужных книг, и вдруг в проходе на втором этаже вижу её силуэт! Она стоит боком, болтает по телефону и подтанцовывает. «Стоп, это же мой танец!» - я кричу, стучу, но она не слышит. Эскалатор предательски спешит увезти меня от этого стекла, вот я вижу её последнее мгновенье снизу вверх и… всё, занавес задёрнут. Я почти доехал до земли, бежать обратно вверх бесполезно - запаникуют, остановят, арестуют и тогда я её уже точно не найду.
Поскольку путь в музей мне был заказан на месяц вперед, я подумал, что подожду её снаружи. Запасся кофе, круассаном, укутался в пальто и занял позицию на ступеньках прямо напротив входа в Помпиду. Памятуя о январской истории, я сразу решил, что никакие алжирцы меня на этот раз не отвлекут, и поэтому уставился в дверь.
Вот пошли какие-то гранжеватые студенты (наверное, будущие искусствоведы из Сорбонны), за ними несколько китайцев (оказывается, они приезжают в Париж не только ради сумок с монограммами), потом ещё студенты, а потом… потом я уснул. Да-да, промозглым мартовским вечером на ступеньках площади Бобур с кружкой кофе в руках. Взял и уснул. А когда проснулся, из музея уже уходили смотрители.
Этим летом жара в Европе стояла неимоверная. Старики ходили с зонтиками на головах, по улицам сновало вдвое меньше народу, чем обычно. Легендарные летние веранды парижских кафе пустовали, потому что все рвались внутрь, поближе к кондиционерам, и даже африканцам с площади Бобур, дующим в здоровенные тубы, кажется, было жарко. А мне такая погода была по душе. Поскольку все кругом валялись в полуобмороке. День выдался свободным, и я пошёл в мечеть.
Знаете, куда неминуемо выходит человек, идущий к соборной мечети по бульвару Сен Джереми? На площадь Мухаммеда V. Вот так, ничего не подозревая, идешь по улице католического святого и оказываешься на площади с мусульманским именем. Поначалу меня это очень забавляло.
В мечети я встретил Ахмада - земляка Мухаммеда V - марокканца, который помогал мне восстановить в памяти правила чтения на арабском языке и отточить те немногочисленные суры Корана, которые я знал наизусть. Ещё он пытался методом от обратного определить историю моего происхождения. Каждую пятницу в течение первых двух-трёх месяцев мы с ним обходили прихожан мечети и каждому он говорил: «Ахи, попробуй, поговори с этим парнем, узнаешь ли ты его язык?» Никто так и не узнал, зато я прославился на всю мечеть, как человек из ниоткуда.
Мой французский был слишком скуден для выходца из колонии, я говорил на английском с явным акцентом. И русский язык для меня тоже был чужим - так сказал профессор славистики, навещавший меня в госпитале по просьбе врачей. Ещё один язык, на котором я говорил чаще всего во сне, окружающим был неизвестен. Фарси, арабский, несколько тюркских, даже баскский - мы тогда перебрали добрую дюжину языков, но не преуспели. Конечно, если бы я задержался в госпитале ещё на неделю-другую, что-нибудь выяснилось бы, но там было слишком душно.
Ахмад говорил мне: «Если ты в целом Париже за три месяца не нашёл ни одного земляка, значит, ты родом из Рая». Однажды он подвёл меня к турку, мяснику с соседней улицы, и тот сказал, что знает, на каком языке я говорю. Вернее, он клялся и божился, что слышал этот язык в Стамбуле ещё до того, как вместе с родителями переехал во Францию.
В следующую пятницу он привёл в мечеть своего старого отца, который подтвердил слова сына: «Их было три семьи. Когда эти люди поселились на нашей улице, только начинали ходить слухи о войне с Англией».
Кто мог поселиться в Турции на закате Османской империи? В тот же вечер я перемерил все балканские языки, но ни один не подошёл, и я бросил поиски: «Придёт время, и всё прояснится по воле Аллаха».
Мы посидели с Ахмадом, вспоминая наши самые нелепые лингвистические эксперименты, и (перед тем, как попрощаться) я решил рассказать ему историю про девушку, которая дважды ускользнула от меня. Она была в платке, может, я смог бы найти её в мечети? Ахмад рассмеялся и ответил: «Брат мой, для тебя я готов на всё, но как ты себе представляешь нас с тобой, выискивающих твою невесту среди девушек, выходящих с пятничной молитвы?»
Мне стало неудобно от собственной нелепой идеи, а он продолжал: «Аллах, Он всевидящ, только вот братья-прихожане вряд ли оценят наши усилия. Ты говоришь, она читала Вольтера, легче и безопаснее её будет найти где-нибудь в Сорбонне». Мы от души посмеялись, и я ушёл прочь.
В течение следующих нескольких недель я почти каждый день проезжал метро Опера, через день бывал на площади Бобур, несколько раз бродил по музею Помпиду, невольно вглядываясь в лица окружающих. Затем я понемногу забыл о своей незнакомке и ничем особенным не интересовался. В это время Анри стал раздумывать о том, не закрыть ли ему галерею, а я стал всё чаще, потерянный, бродить по городу. И всё это, как назло, в начале осени - тоска была дикая. Я несколько раз захаживал в госпиталь, в библиотеку, пытаясь узнать какие-нибудь новости о своём языке. С течением времени становилось всё сложнее ждать с моря погоды, хотелось наконец отыскать корни, найти кого-нибудь, кто говорит на одном со мной языке. Но надолго меня не хватало - становилось душно, как тогда, в самом начале.
Зато в очередной беседе с доктором я впервые узнал, как меня нашли. Оказывается, перед тем, как упасть без сознания и памяти в Люксембургском саду, я прошел не меньше трехсот миль по Парижу без еды и воды. Доктор считал, что в какой-то момент я по неизвестной причине вдруг забыл, кто я есть, откуда и куда иду. Иными словами, я забыл всё и просто потерялся в городе, потому и бродил бесцельно, пока не выбился из последних сил. (Наверное, оттуда и взялась моя привычка к бесконечным променадам).
В один из дней середины октября мне позвонила Ани - галеристка с Порт де Клиньянкур, та самая, что так и не довезла мне Кандинского и мадам Леже. Она попросила о встрече, а я ответил, что мне уже неинтересно, что я всё купил, что мне нужно было. Но Ани была настойчива: «У меня к Вам очень интересное предложение», - повторяла она с нарочито женевским акцентом.
На следующий день мы встретились в «Ротонде», и она рассказал мне, что к ней приезжал некий русский коллекционер, который хочет инвестировать «серьезные деньги» в произведения российских художников-эмигрантов первой волны - тех самых, чьи полотна, гуаши и литографии я скупал для Анри каждую неделю в течение нескольких месяцев и которыми наше хранилище было забито доверху. Лукавя, как взаправдашний торговец искусством, я ответил, что у нас есть пара-тройка подходящих работ и что Ани сможет получить три процента агентских.
Анри был в шоке. Через неделю за день мы продали все, кроме трех картин, двух литографий и одной мозаики Ланского (и те были оставлены ради приличия, чтобы стены в галерее не остались совсем голыми).
«Русский коллекционер» Ани оказался грузинским рантье и книгоиздателем Звиадом Иоселиани. Он понимал, что заплатил три цены за наш склад, но радовался, кажется, не меньше, чем Анри. Мало понимавший в искусстве, но много знавший о деньгах, он, определенно, имел большие планы на свою коллекцию. После сделки мы, как бы обсуждая художественные достоинства мазни Андре Ланского, познакомились поближе. Когда выяснилось, что мы оба владеем русским языком, Звиад спросил: «Откуда ты родом?» Мой больной вопрос. Что я мог ответить? Сказал, что «это длинная история». Будучи, по всей видимости, человеком тактичным, мой новый знакомый поменял тему разговора и пригласил меня на ужин в честь своего нового приобретения.
Стоял дождливый осенний вечер, я думал обо всём на свете, безуспешно пытался вспомнить что-нибудь из прошлого или спланировать что-нибудь на будущее. Единственное, что пришло в голову - это поездить по миру, по любому маршруту наугад и, может быть, найти себя в какой-нибудь точке мира. Поразмыслив немного об этом, я собрался и направился к Звиаду.
Здесь был великосветский раут, который не очень-то мне подходил. В своей сознательной жизни я ещё не бывал на таких. Пришлось знакомиться с совершенно неинтересными людьми просто из вежливости, делать вид, что я в восторге от вкуса морских гадов и долго объяснять, что вина я не пью. «Даже грузинского».
«Друзья, позвольте мне сделать объявление», - заговорил за столом Звиад. Весной следующего года он собирался открыть в Париже аукционный дом, о котором рассказывал с заведомым восторгом. «Но есть одна загвоздка - никак не могу придумать название». Он посмотрел на гостей с выражением вопроса на лице. Все переглянулись, делая вид, что их не на шутку озаботила проблема Звиада, но молчали. Я не очень люблю неловкие немые сцены. Просто чтобы нарушить тишину я спросил: «Пиросмани - не думали?»
Где-то в стороне тут же зазвучал девичий голос: «Точно, Пиросмани, Нико Пиросмани - как красиво!» «Великолепно! - воскликнул Звиад, - Какое название - «Аукционный дом Пиросмани!»
А я в это время оглянулся в ту сторону, откуда была поддержана моя скромная инициатива, и увидел её. Ту самую девушку, что читала Вольтера в метро и передразнивала мой танец в холле Помпиду. «Это моя дочь, - сказал Звиад, - Подойди, Соломе». Я опешил.
Через мгновение, отставив в сторону бокал, вперед вышла высокая смуглая девушка, она схватила за руку незнакомку и поволокла её за собой. И чем ближе они подходили, тем больше запутывались мои мысли. Вот, наконец, они стояли передо мной. «Соломе, очень приятно, - быстро проговорила та, что шла впереди, - А это моя подруга, её зовут Мадина». Звиад продолжил: «Мы очень дружны с отцом Мадины, он сейчас на родине».
Я несколько секунд растеряно молчал, а потом сказал что-то вроде: «О… очень приятно». «Соломе, доверяю гостя тебе», - сказал Звиад и пошел принимать поздравления с учреждением «Аукционного дома «Пиросмани».
Соломе и Мадина смотрели друг на друга, а я смотрел на Мадину. Снова возникла немая сцена, которую, несмотря на моё замешательство, просто необходимо было прервать. Тревожно улыбаясь, я спросил: «Ты меня помнишь, Мадин?» «Хех, Мадин, - засмеялась дочь Звиада, - не Мадин, а Ма-ди-на-а-а».
В этот момент я увидел в глазах моей вчерашней незнакомки, а теперь вроде знакомой, искру любопытства или, может быть, радости. Она как будто долго не решалась заговорить, но собралась с духом и спросила: «Вайнеха вуй хьо?»
Я никогда не слышал ничего прекраснее этих трёх слов. Она говорила на моём языке.
Итак, я в Париже... Но не думайте, однако, что я вам много расскажу собственно о городе Париже. Я думаю, вы столько уже перечитали о нем по-русски, что, наконец, уж и надоело читать. К тому же вы сами в нем были и, наверное, всё лучше меня заметили. Да и терпеть я не мог, за границей, осматривать по гиду, по заказу, по обязанности путешественника, а потому и просмотрел в иных местах такие вещи, что даже стыдно сказать. И в Париже просмотрел. Так и не скажу, что именно просмотрел, но зато вот что скажу: я сделал определение Парижу, прибрал к нему эпитет и стою за этот эпитет. Именно: это самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре. Что за порядок! Какое благоразумие, какие определенные и прочно установившиеся отношения; как всё обеспечено и разлиновано; как все довольны, как все стараются уверить себя, что довольны и совершенно счастливы, и как все, наконец, до того достарались, что и действительно уверили себя, что довольны и совершенно счастливы, и... и... остановились на этом. Далее и дороги нет. Вы не поверите тому, что остановились на этом; вы закричите, что я преувеличиваю, что это всё желчная патриотическая клевета, что не могло же всё это остановиться совсем, в самом деле. Но, друзья мои, ведь предуведомил же я вас еще в первой главе этих заметок, что, может быть, ужасно навру. Ну и не мешайте мне. Вы знаете тоже наверно, что если я и навру, то навру, будучи убежден, что не вру. А, по-моему, этого уже слишком довольно. Ну так и дайте мне свободу. Да, Париж удивительный город. И что за комфорт, что за всевозможные удобства для тех, которые имеют право на удобства, и опять-таки какой порядок, какое, так сказать, затишье порядка . Я всё возвращаюсь к порядку. Право, еще немного, и полуторамиллионный Париж обратится в какой-нибудь окаменелый в затишье и порядке профессорский немецкий городок, вроде, например, какого-нибудь Гейдельберга. Как-то тянет к тому. И будто не может быть Гейдельберга в колоссальном размере? И какая регламентация! Поймите меня: не столько внешняя регламентация, которая ничтожна (сравнительно, разумеется), а колоссальная внутренняя, духовная, из души происшедшая. Париж суживается, как-то охотно, с любовью умаляется, с умилением ежится. Куды в этом отношении, например, Лондон! Я был в Лондоне всего восемь дней, и, по крайней мере наружно, какими широкими картинами, какими яркими планами, своеобразными, нерегулированными под одну мерку планами оттушевался он в моих воспоминаниях. Всё так громадно и резко в своей своеобразности. Даже обмануться можно этой своеобразностью. Каждая резкость, каждое противоречие уживаются рядом с своим антитезом и упрямо идут рука об руку, противореча друг другу и, по-видимому, никак не исключая друг друга. Всё это, кажется, упорно стоит за себя и живет по-своему и, по-видимому, не мешает друг другу. А между тем и тут та же упорная, глухая и уже застарелая борьба, борьба на смерть всеобщезападного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, хоть как-нибудь составить общину и устроиться в одном муравейнике; хоть в муравейник обратиться, да только устроиться, не поедая друг друга не то обращение в антропофаги! В этом отношении, с другой стороны, замечается то же, что и в Париже: такое же отчаянное стремление с отчаяния остановиться на statu quo, вырвать с мясом из себя все желания и надежды, проклясть свое будущее, в которое не хватает веры, может быть, у самих предводителей прогресса, и поклониться Ваалу. Пожалуйста, однако ж, не увлекайтесь высоким слогом: всё это замечается сознательно только в душе передовых сознающих да бессознательно инстинктивно в жизненных отправлениях всей массы. Но буржуа, например в Париже, сознательно почти очень доволен и уверен, что всё так и следует, и прибьет даже вас, если вы усомнитесь в том, что так и следует быть, прибьет, потому что до сих пор всё что-то побаивается, несмотря на всю самоуверенность. В Лондоне хоть и так же, но зато какие широкие, подавляющие картины! Даже наружно какая разница с Парижем. Этот день и ночь суетящийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугунки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами), эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка... Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? думаете вы; не конец ли тут? не это ли уж, и в самом деле, «едино стадо». Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Всё это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал... Ну, это вздор, скажете вы, болезненный вздор, нервы, преувеличение. Не остановится на этом никто, и никто не примет этого за свой идеал. К тому же голод и рабство не свой брат и лучше всего подскажут отрицание и зародят скептицизм. А сытые дилетанты, прогуливающиеся для своего удовольствия, конечно, могут создавать картины из Апокалипсиса и тешить свои нервы, преувеличивая и вымогая из всякого явления для возбуждения себя сильные ощущения... Так, отвечаю я, положим, что я был увлечен декорацией, это всё так. Но если бы вы видели, как горд тот могучий дух, который создал эту колоссальную декорацию, и как гордо убежден этот дух в своей победе и в своем торжестве, то вы бы содрогнулись за его гордыню, упорство и слепоту, содрогнулись бы и за тех, над кем носится и царит этот гордый дух. При такой колоссальности, при такой исполинской гордости владычествующего духа, при такой торжественной оконченности созданий этого духа, замирает нередко и голодная душа, смиряется, подчиняется, ищет спасения в джине и в разврате и начинает веровать, что так всему тому и следует быть. Факт давит, масса деревенеет и прихватывает китайщины, или если и рождается скептицизм, то мрачно и с проклятием ищет спасения в чем-нибудь вроде мормоновщины. А в Лондоне можно увидеть массу в таком размере и при такой обстановке, в какой вы нигде в свете ее наяву не увидите. Говорили мне, например, что ночью по субботам полмиллиона работников и работниц, с их детьми, разливаются как море по всему городу, наиболее группируясь в иных кварталах, и всю ночь до пяти часов празднуют шабаш, то есть наедаются и напиваются, как скоты, за всю неделю. Всё это несет свои еженедельные экономии, всё наработанное тяжким трудом и проклятием. В мясных и съестных лавках толстейшими пучками горит газ, ярко освещая улицы. Точно бал устраивается для этих белых негров. Народ толпится в отворенных тавернах и в улицах. Тут же едят и пьют. Пивные лавки разубраны, как дворцы. Всё пьяно, но без веселья, а мрачно, тяжело, и всё как-то странно молчаливо. Только иногда ругательства и кровавые потасовки на рушают эту подозрительную и грустно действующую на вас молчаливость. Всё это поскорей торопится напиться до потери сознания... Жены не отстают от мужей и напиваются вместе с мужьями; дети бегают и ползают между ними. В такую ночь, во втором часу, я заблудился однажды и долго таскался по улицам среди неисчислимой толпы этого мрачного народа, расспрашивая почти знаками дорогу, потому что по-английски я не знаю ни слова. Я добился дороги, но впечатление того, что я видел, мучило меня дня три после этого. Народ везде народ, но тут всё было так колоссально, так ярко, что вы как бы ощупали то, что до сих пор только воображали. Тут уж вы видите даже и не народ, а потерю сознания, систематическую, покорную, поощряемую. И вы чувствуете, глядя на всех этих париев общества, что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд и что долго еще будут они взывать к престолу всевышнего: «доколе, господи». И они сами знают это и покамест отмщают за себя обществу какими-то подземными мормонами, трясучками, странниками... Мы удивляемся глупости идти в какие-то трясучки и странники и не догадываемся, что тут отделение от нашей общественной формулы, отделение упорное, бессознательное; инстинктивное отделение во что бы то ни стало для ради спасения, отделение с отвращением от нас и ужасом. Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота и ищут выхода, чтоб не задохнуться в темном подвале. Тут последняя, отчаянная попытка сбиться в свою кучу, в свою массу и отделиться от всего, хотя бы даже от образа человеческого, только бы быть по-своему, только бы не быть вместе с нами... Я видел в Лондоне еще одну подобную же этой массу, которую тоже нигде не увидите в таком размере, как в Лондоне. Тоже декорация в своем роде. Кто бывал в Лондоне, тот, наверно, хоть раз сходил ночью в Гай-Маркет. Это квартал, в котором по ночам, в некоторых улицах, тысячами толпятся публичные женщины. Улицы освещены пучками газа, о которых у нас не имеют понятия. Великолепные кофейни, разубранные зеркалами и золотом, на каждом шагу. Тут и сборища, тут и приюты. Даже жутко входить в эту толпу. И так странно она составлена. Тут и старухи, тут и красавицы, перед которыми останавливаешься в изумлении. Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки. Всё это с трудом толпится в улицах, тесно, густо. Толпа не умещается на тротуарах и заливает всю улицу. Всё это жаждет добычи и бросается с бесстыдным цинизмом на первого встречного. Тут и блестящие дорогие одежды и почти лохмотья, и резкое различие лет, всё вместе. В этой ужасной толпе толкается и пьяный бродяга, сюда же заходит и титулованный богач. Слышны ругательства, ссоры, зазыванье и тихий, призывный шепот еще робкой красавицы. И какая иногда красота! Лица точно из кипсеков. Помню, раз я зашел в одно «Casino». Там гремела музыка, шли танцы, толпилась бездна народу. Убранство было великолепное. Но мрачный характер не оставляет англичан и среди веселья: они и танцуют серьезно, даже угрюмо, чуть не выделывая па и как будто по обязанности. Наверху, в галерее, я увидел одну девушку и остановился просто изумленный: ничего подобного такой идеальной красоте я еще не встречал никогда. Она сидела за столиком вместе с молодым человеком, кажется богатым джентльменом и, по всему видно, непривычным посетителем казино. Он, может быть, отыскивал ее, и наконец они свиделись или условились видеться здесь. Он мало говорил с нею и всё как-то отрывисто, как будто не о том, о чем они хотели бы говорить. Разговор часто прерывался долгим молчанием. Она тоже была очень грустна. Черты лица ее были нежны, тонки, что-то затаенное и грустное было в ее прекрасном и немного гордом взгляде, что-то мыслящее и тоскующее. Мне кажется, у ней была чахотка. Она была, она не могла не быть выше всей этой толпы несчастных женщин своим развитием: иначе что же значит лицо человеческое? А между тем она тут же пила джин, за который заплатил молодой человек. Наконец он встал, пожал ей руку, и они расстались. Он ушел из казино, а она с румянцем, разгоревшимся от водки густыми пятнами на ее бледных щеках, пошла и затерялась в толпе промышляющих женщин. В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей. Маленькие девочки лет по двенадцати хватают вас за руку и просят, чтоб вы шли с ними. Помню раз, в толпе народа, на улице, я увидал одну девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках. Она шла, как бы не помня себя, не торопясь никуда, бог знает зачем шатаясь в толпе; может быть, она была голодна. На нее никто не обращал внимания. Но что более всего меня поразило она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она всё качала своей всклоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг сплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у ней деньги. Вообще предметы игривые... И вот, раз ночью, в толпе этих потерянных женщин и развратников остановила меня женщина, торопливо пробиравшаяся сквозь толпу. Она была одета вся в черном, в шляпке, почти закрывавшей ее лицо; я почти и не успел разглядеть его; помню только пристальный ее взгляд. Она сказала что-то, что я не мог разобрать, ломаным французским языком, сунула мне в руку какую-то маленькую бумажку и быстро прошла далее. У освещенного окна кофейной я рассмотрел бумажку: это был маленький квадратный лоскуток; на одной стороне его было напечатано: «Crois-tu cela?». На другой стороне, по-французски же: «Аз есмь воскресение и живот...» и т. д. несколько известных строк. Согласитесь, что это тоже довольно оригинально. Мне растолковали потом, что это католическая пропаганда, шныряющая всюду, упорная, неустанная. То раздаются эти бумажки на улицах, то книжки, состоящие из разных отдельных выдержек из Евангелия и Библии. Раздают их даром, навязывают, суют в руки. Пропагаторов бездна, и мужчин и женщин. Это пропаганда тонкая и расчетливая. Католический священник сам выследит и вотрется в бедное семейство какого-нибудь работника. Найдет он, например, больного, лежащего в отребьи на сыром полу, окруженного одичавшими с голоду и с холоду детьми, с голодной, а зачастую и пьяной женой. Он всех накормит, оденет, обогреет, начнет лечить больного, покупает лекарство, делается другом дома и под конец обращает всех в католичество. Иногда, впрочем, уже после излечения, его прогоняют с ругательствами и побоями. Он не устает и идет к другим. Его оттуда вытолкают; он всё снесет, но уж кого-нибудь да уловит. Англиканский же священник не пойдет к бедному. Бедных и в церковь не пускают, потому что им нечем заплатить за место на скамье. Браки между работниками и вообще между бедными почти зачастую незаконные, потому что дорого стоит венчаться. Кстати, многие из этих мужей ужасно бьют своих жен, уродуют их насмерть и больше всё кочергами, которыми разворачиваются в камине уголья. Это у них какой-то уже определенный к битью инструмент. По крайней мере в газетах, при описании семейных ссор, увечий и убийств, всегда упоминается кочерга. Дети у них, чуть-чуть подросши, зачастую идут на улицу, сливаются с толпой и под конец не возвращаются к родителям. Англиканские священники и епископы горды и богаты, живут в богатых приходах и жиреют в совершенном спокойствии совести. Они большие педанты, очень образованны и сами важно и серьезно верят в свое тупонравственное достоинство, в свое право читать спокойную и самоуверенную мораль, жиреть и жить тут для богатых. Это религия богатых и уж без маски. По крайней мере рационально и без обмана. У этих убежденных до отупения профессоров религии есть одна своего рода забава: это миссионерство. Исходят всю землю, зайдут в глубь Африки, чтоб обратить одного дикого, и забывают миллион диких в Лондоне за то, что у тех нечем платить им. Но богатые англичане и вообще все тамошние золотые тельцы чрезвычайно религиозны, мрачно, угрюмо и своеобразно. Английские поэты испокон веку любят воспевать красоту пасторских жилищ в провинции, осененных столетними дубами и вязами, их добродетельных жен и идеально прекрасных белокурых дочерей с голубыми глазами. Но когда проходит ночь и начинается день, тот же гордый и мрачный дух снова царственно проносится над исполинским городом. Он не тревожится тем, что было ночью, не тревожится и тем, что видит кругом себя днем. Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден. Вера его в себя безгранична; он презрительно и спокойно, чтоб только отвязаться, подает организованную милостыню, и затем поколебать его самоуверенность невозможно. Ваал не прячет от себя, как делают, например, в Париже, иных диких, подозрительных и тревожных явлений жизни. Бедность, страдание, ропот и отупение массы его не тревожат нисколько. Он презрительно позволяет всем этим подозрительным и зловещим явлениям жить рядом с его жизнью, подле, наяву. Он не старается трусливо, как парижанин, усиленно разуверять себя, ободрять и доносить самому себе, что всё спокойно и благополучно. Он не прячет, как в Париже, куда-то бедных, чтоб те не тревожили и не пугали напрасно его сна. Парижанин, как птица страус, любит затыкать свою голову в песок, чтоб так уж и не видать настигающих его охотников. В Париже... Но, однако, что ж это я! Я опять не в Париже... Да когда ж это, господи, я приучусь к порядку...