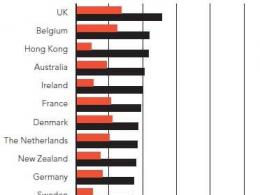Декабристы в Сибири: из политических преступников — в просветители. Декабристы в сибири
История первая. О том, как декабриста Дмитрия Завалишина сослали… (внимание!)... из Сибири обратно в Европу.
В 1856 году, спустя 30 лет с начала суровой сибирской ссылки, декабристов помиловали. И многие из них решили вернуться на Большую Землю, кто в Петербург, кто в Москву, а кто-то в деревню к родственникам. Но живший в Забайкалье политический ссыльный Дмитрий Завалишин возвращаться домой не торопился. Почему? Да потому, что бывший морской офицер и заговорщик наконец-то нашел своё место в жизни, нашел своё настоящее призвание - он ударился в публицистику, сегодня его бы назвали блогером. Завалишин активно печатался на политические темы, писал статьи, в которых разоблачал злоупотребления местных властей. Поэтому генерал-губернатор Муравьёв послал императору прошение и монаршим указом Завалишин был сослан из города Читы обратно - в Европейскую часть России. Уникальный случай!
В ссылке декабристы скучали по Петербургу, поэтому, когда Дмитрию Завалишину предложили поработать над планом городского строительства, он распланировал всё точно по клеточкам, как в столице. Поэтому в Чите по сей день так много прямых улиц, прямых углов и прямоугольных кварталов. Кстати, этот город известен самой большой за Уралом городской площадью.
История третья. О том, как декабрист Луцкий дважды убегал с каторги, а после помилования остался жить в Сибири.
Эта история достойна экранизации. Активный участник декабрьского восстания Александр Николаевич Луцкий, красавец-офицер, юнкер лейб-гвардии Московского полка, (того самого полка, который вышел на Сенатскую площадь), во время движения на каторгу по этапу, поменялся именами с одним из уголовников. Наивный сиделец наверное просто не знал - что там за восстание такое произошло в Петербурге, и за что выслали в Сибирь этого богатого господина. За обмен было предложено 60 рублей - это гигантская сумма по тому времени. Уголовник за эти деньги отдал свою лёгкую статью и красивое имя. Вот так в селе под Иркутском и поселился Агафон Непомнящий, бывший дворянин Луцкий.
Однако, спустя три года подмену обнаружили. Видать, жил не по средствам, к тому же слишком изыскано и утонченно изъяснялся мужик Агафон Непомнящий. Ну, вот откуда вор может знать французский язык, и совершенно не владеть феней? За свой дерзкий поступок Луцкому врезали 100 ударов розгами, и отправили в Новозерентуйский рудник Нерчинской каторги, где заковали в кандалы. Луцкий вёл себя примерно, и через некоторое время убедил администрацию в своём «беспорочном» поведении. Ему позволили жить вне острога, хотя каторгу не отменили. Он был обязан каждый день вкалывать в руднике. Декабрист воспользовался своим вольным положением и совершил побег. Его поймали, снова наказали розгами, но на этот раз стали держать в тюрьме, причем там его приковали к тачке.
История четвертая. О том, как декабристы повышали аграрную культуру населения.
Стоит отметить, что ссыльные декабристы выписывали очень много книг, в том числе на иностранных языках. Комендант генерал Станислав Лепарский должен был следить, что именно читают его подопечные. Сначала он пытался сам прочитывать всё, что заказывали ссыльные, но так как он знал только четыре языка, то разобраться ему было сложно, и он это неблагодарное занятие оставил. Сибирская глушь 19-го века и книги на древнегреческом и латыни - представляете себе уровень образования!?
Уже известный вам многогранный человек, моряк, мятежник, публицист, топограф, лекарь и учитель Дмитрий Завалишин выводил породы молочных коров и держал более 40 лошадей. Он выписывал семена по почте и раздавал их крестьянам. Вдумайтесь! - семена по почте! А почта исключительно на лошадиной тяге. Это же… сколько времени семена из Европы шли в Забайкалье?
Кстати, сад Владимира Раевского в иркутском селе Олонки сохранился до сегодняшнего дня. Тот же Раевский выводил у себя на огороде особо крупные арбузы. Его примеру последовали окрестные жители, и скоро дешевые и сладкие олонские арбузы стали вытеснять с рынка дорогие, привозимые издалека, из европейской России. Алексей Юшневский под Иркутском первым стал разводить кукурузу. Михаил Кюхельбекер сам, своими руками, в селе Баргузин возделал три гектара земли, огородил их и посеял хлеб. Это был первый хлеб, посеянный на баргузинской земле. Следом за ним и крестьяне начали расчищать землю под посевы - так в этих краях началось хлебопашество. Более того, политссыльный Кюхельбекер хлопотал перед начальством о том, чтобы крестьяне были снабжены картофелем для посадки.
История пятая. О том, как декабристы лечили людей.
Декабрист Фердинанд Вольф, в прошлом, во время Отечественной войны 12-го года штаб-лекарь 2-й армии, отбывал наказание в Читинском остроге. Он был образованным и искусным врачом. Сначала он лечил только своих товарищей в тюремных казематах, потом начал лечить и тюремщиков, и постепенно стал оказывать помощь всем, кто к нему обращался: служащих и рабочих завода, горожан-читинцев и даже бурят из дальних кочевий. Когда его перевели в Тобольск, то там при местной тюрьме он без всякого вознаграждения исполнял обязанности врача. Когда он умер, то провожать доктора в последний путь вышел весь Тобольск. Очевидец похорон декабрист Владимир Штейнгель описал это так: "Длинный кортеж тянулся до самой могилы. Между простыми людьми слышны были рассказы о его бескорыстной помощи страждущим - это лучшая панегирика доктору Вольфу!"
Когда в середине 19-го века на Тобольск обрушилось страшное бедствие - холера, декабристы Бобрищев-Пушкин, Фонвизин и Свистунов вместе со своими женами, рискуя жизнью, ухаживали за больными. Михаил Кюхельбекер успешно лечил русских, бурят и тунгусов в Баргузине. Нарышкин с женой оказывали медицинскую помощь населению в Кургане. Шаховской - в Туруханске, вездесущий Дмитрий Завалишин - в Чите, Ентальцев, Якушкин, Пущин - в тюменском ЯлУторовске. Друг и однокурсник Пушкина Иван Пущин потом вспоминал об этом так: "Масса нас всех принимает за лекарей и скорее к нам прибегает, нежели к штатному доктору, который всегда или большей частью пьян и даром не хочет пошевелиться".
История шестая. О том, как сибирское изгнание мужей разделили 11 женщин.
Самая лучшая шутка про жён декабристов звучит так: они поехали за мужьями в Сибирь, и испортили им всю каторгу. Это конечно смешно. Но и грустно. Потому как, на самом деле, они их очень сильно поддержали. Поступок 11-ти женщин можно смело назвать подвигом. Ведь в те годы Сибирь была не такой благоустроенной как сегодня. Ни тебе электричества, ни стиральных машин, ни канализации, ни компьютеров с интернетом, ни модных магазинов, ни кафе. Глушь, тайга, отсутствие дорог, и мужья в острогах. Известно, что когда Екатерина Трубецкая, прибыв в Сибирь, увидела в щель тюремного забора мужа в оборванном тулупчике и в кандалах, то потеряла сознание.
Итог всему вышесказанному. У современника, который близко наблюдал жизнь изгнанников на поселении, есть следующие слова: "Декабристы в тех местностях Сибири, где они жили, приобретали необыкновенную любовь народа". Их действительно любили и уважали. Потому, что, даже находясь в стесненных условиях, они помогали людям. Они строили и пахали. Они лечили и учили. Они приносили пользу людям и Отечеству.
А сколько бы всего хорошего, вечного и доброго они могли бы ещё сделать в своей жизни для своей страны, если бы однажды холодным декабрьским утром не вышли на Сенатскую площадь.
В наши дни невозможно представить историю России без декабристов. Ими восхищались многие писатели, о них слагались легенды, и теперь уже не всегда можно понять, реальна ли та или иная история, или это всего лишь выдумка. 19 века теснейшим образом связана с декабристами. Именно они ознаменовали начало борьбы с феодально-крепостническим строем. Судьба декабристов хоть во многом и была трагической, но стала своеобразным проводником революционных идей в умы масс.
Судьба первых осужденных
Первые декабристы в Сибири оказались вскоре после 14 декабря 1825 года, когда 110 человек не из самых низших сословий выступили против действующего на тот Пятеро из них были казнены практически сразу же, а некоторых приговорили к ссылке и каторжным работам в Сибири на срок от 2 до 20 лет, после чего возвращаться обратно им запрещалось. Другие участники восстания были разжалованы в солдаты и сосланы на бессрочное поселение, а третьи - отправились на работы в крепости, что на практике оказывалось куда хуже каторги.
Уже 23 июля 1826 года 8 осужденных были оправлены из Петропавловской крепости. Путь до Иркутска в то время занимал 37 дней и проделать его декабристы должны были пешком. Все это время они были прикованы к общей цепи, и к каждому заключенному был приставлен собственный жандарм. Тем не менее, по прибытии декабристы в Сибири оказались в относительно неплохих условиях. Все дело было в том, что о них побеспокоился вице-губернатор Горлов, который был членом одной масонской ложи, откуда впоследствии вышло немало декабристов. Цепи с них были сняты, а охрана вокруг дома ослаблена, то есть осужденные фактически могли свободно общаться с тем, с кем захотели бы. Даже отбывать каторгу им первое время не приходилось из-за симпатии высокого начальства, однако это продолжалось недолго, так как за послабления иркутское руководство было предано суду.
Жены декабристов
Особого внимания заслуживают даже не декабристы в Сибири, а их жены, которые готовы были бросить все блага цивилизации и отказаться от той жизни, которую они вели постоянно ради верности своим мужьям. Такие действия не могли остаться незамеченными и воспринимались в обществе не только как верность супругам, но и как поступок, получивший огромный резонанс. Это приводило к тому, что всеми силами пытался не допустить восстановления семей, даже заставил перейти жен, например, княгиню Трубецкую, на положение жены осужденного и ссыльного, а их дети, рожденные в Сибири, должны были стать заводскими крестьянами.
Жизнь декабристов на каторге
Безусловно, декабристы в ссылке попали в совершенно непривычные для себя условия - им приходилось очень нелегко из-за тяжелого труда и весьма скудного питания, тюремщики были жестокими и весьма сожалели о том, что им приходилось следить за здоровьем повстанцев, и нельзя было обращаться с ними так как с остальными, которые не выдерживали больше 2 месяцев. В ответ на издевательства декабристы в Сибири впервые в истории России провели революционную голодовку.
Читинский острог
Пока первые осужденные уже были в ссылке, более 70 человек еще оставались в Петропавловской крепости и других схожих тюрьмах. Со временем их переводили на время в Читигский острог, где была всего пара изб, из-за чего декабристам приходилось жить в жуткой тесноте. Но это их сплотило и дало возможности ближе познакомиться, ведь многие из них вообще знали друг друга только шапочно. В эти время они были заняты на или мололи жерновами рожь. Побег не удался, и хотя заключенным нельзя было иметь бумагу и чернила, через своих жен они связывались с внешним миром и вели довольно активную корреспонденцию.
Уникальная миссия декабристов состояла и в том, что они несли образование в массы, обучая грамоте и наукам всех, кто только хотел учиться. В начале 19 века состояние образование в сибирской глубинке было весьма плачевным, преподавались только основы предметов, поэтому приезд декабристов немало поспособствовал популяризации образования.
ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ
Г. А. ПОРХУНОВ
Омский государственный педагогический университет
ДЕКАБРИСТЫ В СИБИРИ: ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УДК 947 СТАТЬЯ ОТРАЖАЕТЖИЗНЬИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕКАБРИСТОВ В СИБИРИ, ВТОМ ЧИСЛЕ В Г. ОМСКЕ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
С XVII в. Сибирь превращается в "штрафную колонию" Российского государства, куда царское правительство ссылало не только уголовных, но и политических преступников. Там в суровых климатических и бытовых условиях они или "исправлялись" или поплбали.
Сибирь "исправляла" и декабристов, выступивших против царского деспотизма в России. Верховный уголовный суд за покушение на государственный строй и власть императора приговорил к вечной каторге с высылкой в Сибирь 26 наиболее видных участников революционного движения. Всего же по итогам следствия и суда в Сибирь был отправлен 121 человек, в том числе 8 князей, 4 барона. 1 граф, 3 генерала и 94 штаб- и обер-офицера. В зависимости от состава преступления одних определили в каторжные работы на иркутские и нерчинские заводы, других - на поселение. Каторгу отбывали в Восточной Сибири или оставались на месте отбывания каторги.
Особый этап в жизни декабристов связан с приездом в Сибирь их жен. Император Николай I разрешил поехать в Сибирь 14 женщинам: 10 женам, одной невесте, матери и двум сестрам. Первой, в 1826 г., приехала в Иркутск Е. Трубецкая, за ней - М. Волконская, дочь боевого генерала, героя Отечественной войны 1812 г. Н. Н. Раевского. Отправляясь в каторжную Сибирь, жены и родственницы декабристов лишались дворянского звания и должны были навсегда оставить своих детей, а те дети, которые могли
родиться в Сибири, записывались в разряд ссыльнопоселенцев.
В Сибири жены декабристов как могли облегчали жизнь своих близких. Они стали тем звеном, которое связывало каторжников с далекой Россией. Через подцензурную переписку, разрешенную женам, декабристы подали первые весточки о себе на волю, получив с приездом А. Муравьевой знаменитое пушкинское "Послание".
Каторжане-декабристы около года пробыли на Благо-датском руднике Нерчинского края. Ежедневно в пять часов утра государственные преступники спускались в шахты, где должны были в кандалах нарубить три пуда руды. В11 часов дня работы заканчивались. Начальник Нерчинских рудников Бурнашев открыто сожалел о таком "щадящем" режиме и выступал за ужесточение работ, чтобы вывести всех декабристов за два месяца "в расход".
В1827 г. в Сибирь из Петропавловской крепости была отправлена большая группа (70 человек) осужденных декабристов. Все они попали в Читинский острог - поселение из двух десятков изб и нескольких бараков, в которых разместили заключенных. Жили по 12 человек в комнате. "Мы были набиты как сельди в бочке", - вспоминал М. Бестужев. - Все были в кандалах, снимать их разрешалось только в бане и в церкви. Запрещалось иметь письменные принадлежности. Вблизи острога рудников не было, поэтому каторжан использовали на земляных работах.
Читинский острог сблизил и сплотил декабристов, многие Xэ которых раньше не знали друг друга. В кругу ссыльных декабристов царили товарищество, взаимопонимание и взаимопомощь. Они поддерживали друг друга морально и материально.
Материальное положение узников было не одинаковое. Многие жили впроголодь на казенное содержание: 6 коп. в сутки и 2 пуда муки в месяц, другие получали солидную помощь от родственников. Чтобы поддержать нуждавшихся, организовали общий стол, на содержание которого тратились те, кто имел средства. Так, Н Муравьев и С. Волконский ежегодно вносили до 3000 рублей.
С большой долей достоверности можно утверждать, что условия пребывания в сибирской ссылке зависели не столько от тяжести преступления, сколько от социального статуса и имущественного положения самого ссыльного. Представители "верхов", даже находясь в заключении, устраивались относительно неплохо. Местные сибирские власти смотрели на опальных царедворцев как на временных гостей, в отношении которых царский гнев мог. в любой момент смениться на милость. Поэтому, как правило, обходились с ними вежливо и учтиво, давали им большую свободу, чем предусматривалось в инструкциях. Более того, чиновники стремились свести с ними дружбу, а местные жители почитали за величайшую честь оказывать содействие ссыльным князьям и графам.
Декабристы, когда их везли в Забайкалье на каторгу, со всех сторон встречали сочувствие и помощь. Их принимали и угощали губернаторы и полицмейстеры. Население знало о благосклонности к декабристам высших властей Сибири.
Разбросанные сначала по рудникам и заводам, декабристы затем были сведены в одну тюрьму в Чите (1827 г.) и в Петровском заводе (1830 г.). В отличие от прочих каторжан им поручалась только легкая работа. Периодически их приглашал к себе отобедать комендант Читинской тюрьмы генерал С. Р. Лепарский.
Жили декабристы все вместе и имели возможность для общения. Привыкшие к чистоте и порядку, они всеми мерами придавали своим камерам вид жилых помещений, обставляли их кроватями, стульями, столами, шкафами. Когда к некоторым из декабристов прибыли их жены, то мужья имели возможность общаться с ними.
Декабрист Н. И. Лорера в своих "Записках" вспоминал: "Правду сказать, работы наши не были очень обременительны, и мы, запасшись книгами, проводили большую часть времени в чтении и даже разговорах, иногда очень интересных и назидательных, так как между нами были люди очень образованные, начитанные..."
А вот описание жизни декабристов уже в Петровском остроге. "Одно из отделений острога предназначалось для женатых, но жены не жили в остроге, имея свои дома. Они приходили на целые дни, чтобы проводить их с мужьями, и зачастую приглашали кого - либо из нас к своим обедам. Прислугу не впускали в ограду нашей тюрьмы, и дамы готовили с помощью нас все нужное для трапезы, а мы им помогали. Кельи их были убраны коврами, картинами и роялями, на которых часто раздавались звуки Россини или романсы Бланжини и потрясали длинные, мрачные коридоры наши..." Еще одно свидетельство очевидца: "С сосланными из дворян и вообще с политическими преступниками обращались по большей части хорошо. Их почти никогда не посылали на работу, и если не было особого предписания, не содержали в тюрьмах, а на гауптвахтах. Начальство было с ними вежливо, приветливо". Подобные либеральные отношения к ссыльным государственным преступникам продолжались лишь до тех пор, пока они были благоразумны. Тех, кто вел себя дерзко и в Сибири не прекращал антиправительственной деятельности или пытался бежать, низводили на уровень обыкновенных каторжников.
В Читинском остроге, а затем в Петровском заводе Декабристы, среди которых многие были хорошо образованны, организовали "Каторжную академию", для того чтобы
делиться друг с другом своими знаниями. Лекции по истории читали Н. А. Бестужев и Н. М. Муравьев, по истории русской литературы - А. О. Одоевский, по географии - К. П. Торсон, по естественным - Ф. В. Вольф, по математике -П. С. Бобрищев-Пушкин, по астрономии-Д. И. Завалишин и Ф. Вадковский. Значительное место в интеллектуальной жизни узников занимали литературные труды, музыка, пение, живопись. Многие изучали иностранные языки, создавали литературные труды, постоянно обсуждали философские и политические проблемы. Декабрист М. Лунин собирался написать "Историю декабристов", он считал, что "восстание 14 декабря 1825 г. как факт имеет мало последствий, но как принцип имеет огромное значение. .. Тайное общество принадлежит истории..."
Декабристы близко познакомились с народом Сибири, его нуждами и помыслами и много сделали для экономического и культурного подъема края. Некоторые из них заводили образцовые хозяйства, успешно занимались огородничеством и скотоводством, оказывали медицинскую помощь населению. Широко образованные люди, декабристы, распространяли знания, воспитывали у сибиряков интерес к чтению. Декабристы, служившие в правительственных учреждениях, боролись со взяточничеством и другими злоупотреблениями местных чиновников. Борьба за экономический и культурный подъем Сибири стала для многих из них целью жизни. В этой борьбе они видели свой гражданский долг. Декабристы внесли заметный вклад в просвещение и культуру сибиряков. Н. В. Басаргин писал: "жители скоро ознакомились с нами и полюбили нас... Я уверен, что добрая молва о нас сохранится надолго по всей Сибири, что многие скажут сердечное спасибо за ту пользу, которую пребывание наше им доставило".
У декабристов интерес к Сибири проявился еще до восстания 1825 г. К. Ф. Рылеев написал сейчас всем известную песню о Ермаке, а в 1823 г. в своей поэме "Войнаровский" он изобразил своего героя, сосланного в Сибирь, выразителем народных интересов. В ссылке декабристы проявили интерес к быту, нравам, языку, преданиям, религии, песням, танцам народов, населяющих Сибирь. Они изучали ее климат, природу, растительный и животный мир. Становились учителями, лекарями, просветителями ее населения.
М. Кюхельбекер на поселении в Баргузине зимой 1837 г. произвел промер Баргузинской губы. Добытые им сведения явились первыми данными о глубине Байкала после тех, которые были получены в 70 - х годах XVIII в. экспедицией П. Палласа. Возделав 2,5 десятин земли, М. Кюхельбекер посеял первый на баргузинской земле хлеб. А. Юшневский под Иркутском стал разводить кукурузу. М. Муравьев-Апостол в Вилюйске, А. Якубович - под Енисейском впервые посадили картофель, А. Поджио - на тюремном огороде в Чите вырастил огурцы. Декабристы устраивали мукомольные мельницы, маслобойки, занимались разведением улучшенной породы лошадей. Всюду, где их поселяли, они оказывали медицинскую помощь населению.
Поселенные в Ялуторовске после отбытия каторжных работ М. Муравьев - Апостол, И. Пушкин, Е. Оболенский, Н. Басаргин и другие по инициативе И. Д. Якушкина много сделали для обучения детей жителей Ялуторовска и его окрестностей. Они явились основателями в Ялуторовске мужской, а затем женской школ. В них обучались дети мещан, купцов, крестьян.
В1854 г. в московском журнале "Вестник естественных наук" из номера в номер печаталась статья под названием "Гусиное озеро". Подписи под статьей не было. В сноске редакция сообщала: "Статья, предлагаемая нами, составлена автором, проживающим более 30 лет в Забайкалье". Такая неопределенность была вызвана запрещением упоминать имена декабристов в печати. Автором статьи был Н. А. Бестужев, отбывший в Сибири 13 лет каторги и в 1839 г. поселенный в Селенгинске. Он первый посвятил Гусиному озеру в Забайкалье обширную и обстоятельную
Под влиянием декабристов в 20-е годы заметно оживился интерес сибирской общественности к вопросам краеведения и литературы. В сибирских городах создавались кружки любителей словесности. К концу 20-х годов XIX в. относится издание "Енисейского альманаха", в котором печатались произведения местных авторов -поэтов, прозаиков и краеведов.
Декабристы создавали песни. А. Одоевский написал песню "Далекий путь" как ответ на романтическое событие в Петровском каземате - приезд к декабристу В. Иваше-вичу невесты К. Ле Дантье. Изучив народное творчество местных жителей Сибири, декабристы отметили преобладание в музыкальных инструментах бурят и якутов ударных и шумовых бубнов, тарелок, колокольчиков, металлических побрякушек, что говорило о специфике музыкальной культуры этих народов. Декабристы участвовали в работе хоров в Иркутске и Тобольске, в домашних музицированиях в Тобольске, Иркутске, Шуше и Минусинске. Покидая Сибирь, они оставляли здесь свои инструменты, способствуя тем самым созданию материальной культуры в Сибири. Большой вклад внесли декабристы в музыкальное просвещение. Они являлись основателями музыкальных школ в Петровске и Тобольске.
Среди талантливых художников-любителей из декабристов выделяется Н. Бестужев, написавший около 80 акварельных портретов участников восстания на Сенатской площади и их жен. В многочисленных пейзажах, написанных с натуры, Н. Бестужев отразил суровую красоту сибирской природы - виды Читы, Петровского завода и их окрестностей.
В культурном просвещении Сибири роль декабристов поистине неоценима. Устроившись на поселении, многие из них распространяли агрономические знания, развивали народное образование и изучали природные богатства края, вели его этнографическое изучение. Декабристы В. Ф. Раевский, А. Е. Розен, Д. И. Завалишин, С. Г Волконский, М. А. и Н. А. Бестужевы, К. П. Торсон и другие, занявшись земледелием, делились опытом с сибирскими крестьянами. Братья А. и П. Борисовы вели исследования сибирской флоры и фауны. Н. А. Бестужев собирал этнографические сведения о бурятах, М. А. Бестужев, М. С. Лунин, В. И. Штейн-гейль занимались сибирской историей. Ф. В. Волф, П, С. Бо-брищев-Пушкин, М. К. Кюхельбекер оказывали медицинскую помощь. Почти все декабристы по месту своей ссылки занимались просвещением: М. И. Муравьев-Апостол учил местных детей в Вюлюйске; А. Юшневский, А. Поджио, П. Борисов - в Иркутске, братья Беляевы - в Минусинске. В. Ф. Раевский открыл школу в селе Олонки (Иркутская губерния), И. Д. Якушин - в Ялуторовске. Близкий к декабристам композиторА. А. Алябьев, сосланный в 1828 г. в Тобольск, устраивал здесь музыкальные вечера, концерты, организовал казачий оркестр из 100 музыкантов. В Тобольске, Иркутске, Ялуторовске, Кургане и других городах центрами культурной жизни становились дома декабристов.
Надо полагать, что декабристы мечтали о времени, когда Сибирь станет равноправной частью страны, а сибирские народности приобщатся к высокой русской культуре. Они еще в Сибири начали печатать в прессе свои статьи, излагая в них идеи подъема производительных сил и культурного уровня Сибири.
Деятельность многих декабристов связана с Западной Сибирью, в том числе и с городом Омском. В ноябре 1826 г после заточения в Петропавловской крепости в Сибирь на поселение прибыл ученый Степан Михайлович Семенов. Он был сослан навечно за принадлежность к Северному обществу. Царский приказ предписывал использовать
декабриста "для употребления на службе в отдаленных местах". В Омске Семенова зачислили в штат Омского областного управления, но вскоре генерал - губернатор П. М. Капцевич распорядился выслать декабриста в Усть -Каменогорск. В1829 г. по поручению управляющего Омской областью генерал - майора В. И. Сен - Лорана Семенов отправляется сопровождать экспедицию немецкого ученого А. Гумбальдта, который прибыл в Омск, направляясь исследовать Урал и Западную Сибирь.
Ссыльный декабрист поразил немецкого ученого своими разносторонними знаниями, и он ходатайствует перед русским правительством об облегчении участи ссыльного, но "верхи" были иного мнения. За труды царь отблагодарил Семенова "высылкой в отдаленные места без права выезда". Его выслали в Туринск и определили писарем окружного суда. Только через 8 лет, в 1838 г. Семенову разрешили вернуться в Омск, где он работал столоначальником, а затем управляющим вторым отделением Совета Главного управления Западной Сибири. Прожил Семенов в Омске до 1841 г., до перевода его на службу в Тобольское губернское управление.
С Омском была связана определенное время судьба поручика Николая Васильевича Басаргина, члена Южного общества декабристов, одного из наиболее последовательных революционеров, приговоренного к политической казни и каторжным работам в Нерчинских рудниках. После каторги его направили на поселение в Туринск, а потом в Курган. В 1846 г. - переводят в Омск, где он определяется на гражданскую службу служителем в канцелярию Пограничного управления сибирских киргизов. Басаргин вместе с декабристом Якушкиным принимал участие в организации двух общественных школ начальной грамоты для мальчиков и девочек в Ялуторовске, куда он перебрался с разрешения властей в феврале 1848 г. Эти школы стали образцовыми среди начальных школ того времени. Басаргин был самым крупным и глубоким исследователем экономики Западной Сибири. Он написал целый ряд работ экономико - географического характера.
После десятилетней ссылки в Якутии и солдатчины, в 1839 г в Омск на поселение прибыл участник Северного общества декабристов Николай Александрович Чижов. В Омске Чижов находился с 1839 по 1842 гг. Н. А. Чижов был талантливым поэтом и путешественником -ученым. В1821 г. он участвовал в экспедиции на Новую Землю. Находясь на службе солдатской, Чижов внимательно изучал творчество народов Якутии и написал несколько поэм, в которых с большой любовью воспел суровую красоту Сибири. В Омске Чижов назначается помощником начальника продовольственного отдела штаба отдельного Сибирского корпуса.
Почти 20 лет прожил« Тарском уезде, а затем в Таре, полковник артиллерии Башмаков. Он разжалован в рядовые и приговорен к вечному поселению в Сибирь еще до восстания на Сенатской площади.
В Сибири отбывал ссылку поэт - декабрист Александр Иванович Одоевский. В 1836 г. он прибыл в Ишим. Корнет лейб - гвардии конного полка Одоевский в 19 лет с оружием в руках вышел на Сенатскую площадь. После подавления выступления декабристов корнет был арестован и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Одоевского приговорили к 15 годам каторги, отбывать которую направили в Читинский острог, а потом - в Петровский завод. После каторги вышел на поселение и прожил 4 года под Иркутском, затем переведен в Западную Сибирь, в г. Ишим.
Как поэт А. И. Одоевский писал о свободе, о родине, о народе. На квартире в Ишиме часто собиралась молодежь, чтобы послушать его стихи. Одоевский не берег свои стихотворения и часто их вообще не записывал. Никогда не печатал. После Ишима был переведен в Ялуторовск, а затем - солдатом на Кавказ. Зачислен в Нижегородский драгунский полк, где с весны 1837 г. служил М. Ю. Лер-
монтов, сосланный на Кавказ за стихи на смерть А. С. Пуш-*кина.
: Летом 1В38 г. на Кавказе с ссыльными декабристами встретился Н. П. Огарев, которого отпустили из ссылки. для лечения в Минеральных Водах. "Встреча с Одоевским и декабристами возбудила мои симпатии до состояния. ■ какой-то восторженности, - вспоминал он. - Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками. Я - идущий по дороге, я -■обрекающий себя на ту же участь...". В августе 1839 г. на Кавказе А. И. Одоевский умер от тропической малярии.
В Сибири отбывал ссылку декабрист Владимир Иванович Штейнгейль. В1812 г. он добровольно вступил в Петербургское ополчение, участвовал в заграничных походах русской армии 1813 - 1814 гг. Побывал в Париже. После возвращения работает над проектами социальных и экономических реформ, которые предлагает вниманию правительства. Выступает за отмену наказаний кнутом и плетью, ставит вопрос об освобождении крестьян, пишет об этом царю Александру I. Не получив ответа, становится на путь революционной борьбы. Вступает в Северное тайное общество. Принимает участие в разработке восстания, а утром 14 декабря 1825 г. по поручению К. Ф. Рылеева пишет Манифест.
После подавления восстания его доставляют в Зимний дворец. На вопрос Николая I, почему он не донес о замыслах товарищей, отвечает: "Государь, я не мог И мысли допустить дать кому-нибудь право называть меня подлецом". После допроса заключен в Петропавловскую крепость.
В 1827 г. Штейнгейля, закованного в кандалы, отправляют в Сибирь на каторгу. Читинский острог, Петровский завод - это вехи пути государственного преступника. После окончания каторжных работ на Петровском заводе в 1835 г его переводят на поселение в село Елань, недалеко от Иркутска, а 11 марта 1837 г. - направляют в Ишим (Западная Сибирь). В Ишиме он продолжает свою работу по изучению Сибири. Подготовил труд "Историческое описание Ишимского округа Тобольской губернии", который был опубликован в журнале Министерства внутренних дел без имени автора.
7 марта 1840 г. Штейнгейля переводят на поселение в г. Тобольск, а затем в Тару, где он прожил 8 лет. В августе 1856 г. Штейнгейлю было разрешено вернуться в европейскую Россию и только в ноябре 1856 г. ему разрешили проживать в Петербурге со своей семьей. Умер В. И. Штейнгейль 20 сентября 1882 г.
Находясь в Сибири, декабристы не вынашивали мысли о новом революционном выступлении, но деятельность свою они рассматривали как продолжение борьбы с самодержавием, в результате которой в будущем появятся условия для нового восстания. Однако не все примирились с отказом от активной борьбы. Часть декабристов мечтала о борьбе на свободе, в 1828 г. готовился побег декабристов под руководством М. Лунина и И. Сухинова, бывшего офицера Черниговского полка. И. Сухинов одновременно участвовал в разработке плана освобождения декабристов из Читинского острога, но сроки побега выдал предатель. Активных участников подготовки побега судили. И. Сухинов погиб - покончил жизнь самоубийством, а пятеро его товарищей были расстреляны. Остальные - получили по 200 - 300 ударов кнутом. Так закончилась единственная
попытка декабристов вырваться на волю. После этого "заговора" а 1830 г декабристов переводят на новое место заключения - в Петровский железоделательный завод близ Иркутска. Здесь специально была построена тюрьма с одиночными камерами без окон.
К М. Лунину судьба была более благосклонной. На каторге он написал ряд острых политических статей, которые под видом писем к сестре были перенаправлены в Петербург. В 1838 г. о письмах стало известно шефу жандармов Бенкендорфу. За написание ряда антисамодержавных, антикрепостничестских памфлетов и статей М. Лунина отправляют в Акаутский острог, имевший на Нерчинской каторге репутацию "ада в аду". Там М. Лунин находился до самой своей смерти, последовавшей в 1845 г.
В 1839 г. закончились каторжные сроки у большинства декабристов, и их стали отправлять на поселение. Жизнь на поселении основной массы декабристов была не легче, чем на каторге. Но они теперь могли общаться друг с другом и помогать друг другу. Поселенцы были раскиданы по глухим углам Сибири, представлены сами себе. Тяжко приходилось декабристам Йз числа неимущих и не имевших богатой родни, такие как А. Шахирев, В. И. Враницкий, Н. О, Мозгалевский, вынуждены были собственным трудом добывать кусок хлеба на пропитание. Нищета и изоляция делали свое дело, Многие были «убиты жизнью» в далеко не преклонные годы, некоторые сошли с ума, кое-кто своими руками свел счеты с судьбой. Некоторые из-за материальных затруднений или желания реабилитироваться добивались зачисления на государственную службу. Определять их разрешалось только в самые низшие чины с сохранением за ними статуса ссыльных государственных преступников. Так, на службе оказались Н. В. Басаргии, С. М. Степанов, А. Н. Муравьев, А. Ф. Бригген, И. А. Анненков, П. Н. Свистунов, А. М. Муравьев. Некоторым из них удалось даже сделать карьеру.
В сороковые годы уже все декабристы в Сибири были на положении ссыльнопоселенцев. Многие женятся на крестьянках, начинают заниматься трудом, обзаводятся хозяйством. На поселении слишком явно выявилась разница между декабристами по имущественному признаку. Декабристы - князья Трубецкие и Волконские, например, строили для себя роскошные особняки, вели обеспеченную светскую жизнь. «Зимой, - вспоминает иркутянин, -в доме Волконских жилось шумно и открыто, и всякий, принадлежавший к иркутскому обществу, почитал за честь бывать в нем». Визиты опальным князьям делал сам генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев -Амурский и другое высшие чиновники. Обеспеченную жизнь вели на поселении в Забайкалье К. П. Торсон и Н. А. и М. А. Бестужевы.
В 1856 г. после смерти Николая I его наследник Александр II объявил амнистию декабристам с разрешением вернуться из Сибири. Воспользоваться этой возможностью смогли меньше.40 человек. Дольше всех товарищей прожил после возвращения из Сибири Д. Завалишин. Последний декабрист умер в 1892 г.
Сибиряки навсегда сохранили благодарную память об этих замечательных людях.
ПОРХУНОВ Г. А., доктор исторических наук, профессор Омского государственного педагогического университета.
Сибирь - огромная часть российской карты, которая ассоциируется с непростым природным и человеческим климатом. И хотя жива и популярна до сих пор фраза Михаила Ломоносова о том, что «могущество российское прирастать будет Сибирью», суровый регион до сих пор воспринимается через призму ссылки, каторги, тюрьмы…
«Бродяжкино окошко»
Первые ссыльные появились в Сибири в начале 17 века - с началом правления династии Романовых. Правительство рассчитало все точно: самый простой способ - отослать неблагонадежных граждан куда подальше от столиц. Дикая, далекая, ледяная Сибирь стала местом вечного поселения и упокоения многих сотен тысяч людей, неугодных власти.
И потянулись через всю огромную страну этапы, по которым брели кандальники: крестьяне, солдаты, проворовавшиеся чиновники, казнокрады и воры помельче, неугодные всех мастей… Власть преследовала здесь несколько задач. С одной стороны, убирала преступников из центральных районов страны, а с другой - заселяла новые земли. Это был цинично дешевый и доступный способ.
Но главный тюремный контингент составляли, прежде всего, политические ссыльные. Кстати, одним из первых политических ссыльных стал… колокол. 15 мая 1591 года в Угличе был убит царевич Дмитрий. Начался бунт, который был подавлен. Оставшихся в живых возмутителей спокойствия сослали в Сибирь. И вместе с ними - колокол, в который били в набат, созывая народ на восстание. Колоколу отсекли «ухо» и сделали на нем позорную надпись: «Сей колокол, в который били в набат при убиении царевича Дмитрия, в 1593 году прислан из города Углича в Сибирь, в ссылку...»
Иркутск не избежал участи других сибирских городов - стал одним из центров ссылки. Интересный сибирский факт. Уже в XIX веке крестьяне, ставя избы, не забывали прорубать в той стене, что смотрела на север, небольшую отдушину, которую в народе называли «бродяжкино окошко». В нем обычно оставляли табак или сухари для беглых каторжан.
Первые четырнадцать декабристов
 В начале 19 века Сибирь приняла главных политических ссыльных в российской истории - декабристов. Первые четырнадцать декабристов были отправлены по этапу в Иркутск в ночь на 21 и 23 июля 1826 года. До Иркутска из Петропавловской крепости Петербурга они добирались 37 дней. Причем почти весь путь им пришлось проделать, не снимая кандалов.
В начале 19 века Сибирь приняла главных политических ссыльных в российской истории - декабристов. Первые четырнадцать декабристов были отправлены по этапу в Иркутск в ночь на 21 и 23 июля 1826 года. До Иркутска из Петропавловской крепости Петербурга они добирались 37 дней. Причем почти весь путь им пришлось проделать, не снимая кандалов.
И. Заикин, А. Муравьев, В. Давыдов, Е. Оболенский, А. Якубович, С. Трубецкой, С. Волконский, братья Андрей и Петр Борисовы, А. Веденяпин, С. Краснокутский, Н. Чижов, В. Голицын, М. Назимов - вот имена первых декабристов, прибывших в начале осени в иркутскую ссылку.
Их прибытие держалось в строжайшем секрете. Тем не менее к встрече декабристов в Иркутске готовились заранее, и не только городские власти. О прибытии «политических» прознали представители филиала томской масонской ложи, которая существовала в Иркутске. Потому иркутские масоны с нетерпением ждали первую партию ссыльных и сделали все, чтобы к их прибытию у Московских ворот собралась приличная толпа. Иркутяне, несмотря на строжайший запрет и секретность, пришли поглазеть на участников восстания на Сенатской площади.
Первые встречи иркутян с декабристами были короткими: почти сразу государственных преступников выслали дальше, на каторгу. Часть из них была отправлена на солеваренный завод в Усолье-Сибирское, часть - на Александровский и Николаевский винокуренные заводы. Сибиряки к декабристам отнеслись с определенной симпатией. Известный факт, что Е. Оболенский и А. Якубович, отправленные в Усолье, вместо тяжелой работы в цехах, где вываривали соль, получили работу дровосеков.
Впрочем, подобное послабление быстро закончилось. Заместитель генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Горлов за допущенные послабления к государственным преступникам по указанию императора был предан суду, а декабристов уже в октябре 1826 года перевели на Нерчинскую каторгу. Там с ними уже не церемонились. Дворянам и интеллигентам пришлось работать на Благодатском руднике в тяжёлых условиях.
И только когда в Нерчинск прибыли первые декабристские жены - Е. Трубецкая и М. Волконская - политические ссыльные начали получать официальные послабления. Подвиг же самих декабристских жен был воспет Николаем Некрасовым в поэме «Русские женщины».
На поселении
 Когда каторга сменилась для декабристов поселением, начались их более тесные контакты с иркутянами. При том, что жизнь на поселении определялась многочисленными инструкциями. Им запрещалось отлучаться из мест поселения без разрешения начальства далее, чем на 30 верст. Вся переписка с родственниками должна была вестись через канцелярию генерал-губернатора. Занятия промыслами были строго регламентированы: государство зорко следило, чтобы декабристы не обрели финансовую независимость. За редким исключением декабристам запрещалось вступать в государственную службу, а также заниматься общественно-значимыми видами деятельности, например, педагогикой. Что не мешало многим ссыльным обучать грамоте местное население, а властям - закрывать на это глаза.
Когда каторга сменилась для декабристов поселением, начались их более тесные контакты с иркутянами. При том, что жизнь на поселении определялась многочисленными инструкциями. Им запрещалось отлучаться из мест поселения без разрешения начальства далее, чем на 30 верст. Вся переписка с родственниками должна была вестись через канцелярию генерал-губернатора. Занятия промыслами были строго регламентированы: государство зорко следило, чтобы декабристы не обрели финансовую независимость. За редким исключением декабристам запрещалось вступать в государственную службу, а также заниматься общественно-значимыми видами деятельности, например, педагогикой. Что не мешало многим ссыльным обучать грамоте местное население, а властям - закрывать на это глаза.
Многие декабристы в ссылке собирали материалы по истории Сибири, изучали народный быт. Ещё в Чите на средства жён декабристов была устроена небольшая больница, которой пользовались не только ссыльные, но и местные жители. Большинство декабристов разделяли мнение Лунина, который в одной из своих статей писал: «Настоящее житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили».
Иркутские декабристы
Иркутская колония декабристов была одной из самых больших. К Иркутску остались «приписаны» Лунин, Волконский, Трубецкой, Муханов, Поджио, Анненков, Вольф, Юшневский, Якубович, Раевский, Штейнгель и другие. Хотя до 1845 года большинство из них бывали в столице Иркутской губернии лишь наездами, обосновавшись в пригородных селах.

Первым настоящим иркутянином-декабристом стал Муравьев. Приговоренный к ссылке в Сибирь без лишения чинов и дворянства, сначала он был назначен городничим в Верхнеудинске, а в 1828 году переведен в Иркутск. Под руководством Муравьева центр города был благоустроен: положены тесовые тротуары, на набережной Ангары стали устраиваться народные гуляния в экипажах. Полиция, которую возглавлял ссыльный городничий, сумела так поддерживать порядок в городе, что ее не раз хвалили в жандармских донесениях. Дом декабриста Муравьева на Спасской площади стал одним из центров культурной жизни Иркутска. Здесь проводились музыкальные и поэтические вечера, лекции, творческие встречи.
Декабрист Раевский не только открыл в селе Олонки школу для детей и взрослых, но на свои деньги пригласил учителя и выписал учебные пособия, предложил использовать свой дом в Тихвинском приходе Иркутска для занятий девочек из Сиропитательного дома Медведниковой. Учительствовали также Борисов, Юшневский и Поджио.
В 1836 году по представлению генерал-губернатора Броневского «ввиду недостатка в крае медицинских чиновников» была разрешена врачебная практика Вольфу. Доверие к ссыльному доктору было столь велико, что к его услугам прибегали и влиятельные иркутяне - богатые купцы, чиновники и даже губернатор. Оказывал медицинскую помощь нуждающимся и Муравьев: бывший гусарский полковник оказался «успешливым зубодером». А Мария Волконская и Екатерина Трубецкая почти с каждой посылкой получали лекарства для раздачи больным односельчанам.
Большое влияние оказали «государственные преступники» и на развитие культуры в Сибири. Именно с появлением здесь этих высокообразованных людей у сибирской молодежи появилась «тяга к учебе» и «стремление в университеты». Вошли в моду чтение, подписка на газеты и журналы, устройство литературных и музыкальных вечеров, посещение театра. В доме Волконских репетировали и ставили спектакли. С открытием в Иркутске театра его постоянными зрителями стали семьи Трубецких и Волконских.
 Сегодня дома Трубецких и Волконских - действующие музеи, экспозиции которых рассказывают не только о быте декабристов, но и об их вкладе в культурную жизнь Иркутска. Один из учеников декабристов, замечательный врач и журналист Н. Белоголовый писал: «Зимой в доме Волконских жилось шумно и открыто, и всякий, принадлежавший к иркутскому обществу, почитал за честь бывать в нем».
Сегодня дома Трубецких и Волконских - действующие музеи, экспозиции которых рассказывают не только о быте декабристов, но и об их вкладе в культурную жизнь Иркутска. Один из учеников декабристов, замечательный врач и журналист Н. Белоголовый писал: «Зимой в доме Волконских жилось шумно и открыто, и всякий, принадлежавший к иркутскому обществу, почитал за честь бывать в нем».
Политическая ссылка, одним из центров которой стал Иркутск, сыграла в жизни сибиряков огромную положительную роль. Декабристы были высокообразованными, культурными людьми, известными не только в России, но и в Европе. Именно они принесли сибирякам в целом и иркутянам в частности не столько культуру и науку, сколько интеллигентный просвещенный взгляд на мир и общество.
Прошло тридцать лет…
Прощение царя вызывало у декабристов двойственное чувство: с одной стороны, им хотелось вернуться, а с другой - налаженный за тридцать лет быт давал больше уверенности и надежности, чем столичная неизвестность. Кроме того, декабристов, которые стали к тому времени уже стариками, возмущало недоверие Александра II, отдававшего бывших ссыльных под надзор полиции.
Александр II позаботился об эффектном представлении своей «милости» - доставить Манифест об амнистии в Иркутск было поручено сыну декабриста Михаилу Волконскому. При этом он ясно дал понять, что декабристы по-прежнему в глазах власти остаются преступниками. И милосердие проявлено лишь к их старости.
Как бы то ни было, иркутяне остались благодарны декабристам и тому вкладу, который те привнесли в общественную жизнь Сибири.
Общего плана размещения декабристов в Забайкалье первоначально не было. Первая партия декабристов: Волконский С. Г., Трубецкой С. П., Оболенский Е. П., Артамон Муравьёв, Давыдов В. Л., Якубович А. И. и два брата Борисовых П. И и А. И. — была отправлена в Нерчинский завод, на Благодатский рудник. Прибыли они 25 октября 1826 года, а через пять дней начали работать в руднике.
Нерчинск удивил декабристов своим роскошным Гостиным двором, построенным по указу Петра I. А Благодатка ввела в уныние. Никакой благодати здесь не было: хилые, покосившиеся избёнки, неухоженные дворы. Поначалу их было разъединили: Трубецкого и Волконского поселили отдельно от остальных, на частных квартирах. Но вскоре это не понравилось начальнику Нерчинских заводов Т. С. Бурнашеву, который усмотрел, что «преступники ходят по улицам и в тоне небезважном». 27 ноября он приказывает поместить их в казарме. Всех восьмерых разместили в одной тюрьме, разгороженной на «каюты» — маленькие «казенки-клетушки».
Начальник приказал содержать декабристов в особой строгости. У них отобрали не только бумагу, но и церковные книги. К их каземату он велел приставить четырёх часовых, которые находились там днём и ночью. Бурнашев не очень отличал декабристов от всех других. По существующему распорядку их в пять утра выводили в шахту. В ней они молотками долбили руду. А потом на носилках выносили её на поверхность.
Положение узников сделалось невыносимее, когда в феврале 1827 года надзор за тюрьмой был передан горному офицеру Рику, который из экономии перестал давать им свечи. Находиться же зимой с трёх часов вечера до семи утра без света в какой-то клетке, где можно задохнуться, представляло настоящую пытку. В ответ на просьбы о прогулках хамил, велел солдатам силой загонять их в каземат. Кроме того, Рик запретил всякие разговоры из одного отделения в другое. Декабристы объявили голодовку: наотрез отказались есть, в течение трёх дней ложились и вставали голодными. Когда об этом доложили Бурнашеву, он немедленно приехал. Его напугала их голодовка — с таким протестом отчаяния он ещё не встречался. Зарвавшегося Рика Бурнашев немедленно удалил, а на его место вызвал из Читы прапорщика Резанова. Резанов с удовольствие водил декабристов на прогулку, играл с ними в шахматы.
Весной 1827 года в Благодатку приехал генерал-майор Лепарский, ради декабристов назначенный на вновь изобретённую должность коменданта Нерчинских рудников. Лепарский, заботясь о здоровье узников, приказал посылать их работать «на чистом воздухе». Вскоре декабристов освободили от работ в шахте — заставили на поверхности перебирать руду, поставили на переноску отсортированной руды. О чём они очень сожалели. Под землёй было теплее, да и рабочий день был короче. Эта «урочная работа» была тяжелее, чем подземная, где какой-либо нормы им не устанавливалось, — необходимо было для выполнения «урока» перенести 30 носилок по пять пудов каждую. Такая работа была не каждому под силу.
На Благодатке декабристы пробыли до 18 сентября, а затем были отправлены в Читинский острог, куда прибыли 29 сентября 1827 года.
2 Читинский острог
Пока первая партия декабристов «долбила» в Благодатке руду, в Читинском остроге готовились принять остальных узников. В Читу декабристы начали поступать с 28 января 1827 года. К началу 1828 года сюда прибыло 67 человек. В 1828 году поступило ещё 13, вскоре к ним присоединили и первых восемь, томившихся в Благодатском руднике. Всего через Читинские казематы (Малый, Дьячковский и Большой) прошло 86 узников, из них 75 декабристов, трое осужденных по делу о возмущении Черниговского полка, трое — по делу о возмущении Литовского пионерного батальона, четверо — по делу Оренбургского общества и один — по делу Астраханского тайного общества. Все осужденные были помещены в один Читинский острог, так как Николай I опасался, что под влиянием декабристов возникнет общий бунт всей Восточной Сибири.
Под временную тюрьму в Читинском остроге определили два дома. Один взяли в аренду у мещанина Мокеева, другой у отставного канцеляриста Дьячкова. Ещё два дома сняли под караульни. К весне оба дома-каземата были переполнены, в них проживало человек сорок. Была великая теснота: на нарах можно было спать только на боку. Обедать приходилось на разборном «столе», для которого вносили козлы и на них настилали доски. Из-за тесноты и столпотворения Лепарский попросил Петербург приостановить присылку новых узников до окончания строительства нового каземата. Траншеи под фундамент и ров для частокола декабристы копали сами.

К осени новая временная тюрьма — большой каземат — была готова. А «американскую» по эскизу Лавинского начали закладывать в Петровском заводе. Её строительство будет идти быстрыми темпами. А пока декабристы справляли новоселье в новом каземате Читы. Каземат размером 23×13 метров разделялся на пять горниц и сени, где стояли часовые. В четырёх комнатах («Псков», «Новгород», «Москва» и «Вологда») размещалось от 15 до 20 человек. Построен он был дурно: окна с решётками были без колод, их приделали прямо к стенам. Зато в нём вместо нар стояли деревянные кровати — их заказали на свои деньги. В общей комнате стояли большой стол и скамейки. В пятой «дежурной» комнате постоянно находились два унтер-офицера, осуществлявшие надзор за узниками и следившие за исправностью несения солдатами внутреннего караула.
Так как в Чите не было рудников, то ссыльным пришлось заниматься земляными работами. Декабристы благоустраивали читинские улицы, чистили конюшни, засыпали песком овраг — Чертову могилу, строили собственную тюрьму. Зимой, в холодное время, в особом помещении мололи муку на ручных жерновах. Здесь было положено начало артельного хозяйства, общими были деньги, продукты. В часы отдыха занимались огородничеством.
В начале августа 1828 года в Чите произошло таинственное событие. Из Петербурга спешно прискакал фельдъегерь. Но никого не привез и не увёз. Шло время, в судьбе декабристов ничего не менялось. Лишь в конце сентября эта тайна была раскрыта при обстоятельствах, не совсем обычных. Генерал Лепарский вдруг появился в казарме в полной парадной форме с новой лентой через плечо. Он собрал всех в кружок и объявил, что император высочайше повелел снять с узников кандалы. Унтер-офицер тут же принёс ключи, отомкнул замки, и кандалы с грохотом полетели в угол. Впервые за полтора года в каземате наступила тишина. А то при движениях стоял вечный звон, словно от гигантских шпор. Теперь кандалы были сняты со всех.
По поводу неожиданного летнего приезда фельдъегеря выяснилось следующее. У Николая I умерла мать. Выходя после литургии из храма, он приказал снять кандалы с тех декабристов, которые достойно себя вели. Приказ был отдан 8 июля, а в начале августа фельдъегерь уже был в Чите. Повеление императора озадачило коменданта. Снять кандалы с некоторых означало обидеть остальных. Снять со всех — можно навлечь на себя гнев, лишиться места. Лепарский отписал в Петербург, что поведение у всех отменное, а потому он просит разрешения снять оковы со всех. Разрешение было получено.

С приездом жен декабристов оживилась жизнь всего острога-селения. Дома приняли благообразный вид. Как на праздник съезжался торговый люд. В открывшуюся почтовую контору тройки приходили в мыле, посылки потяжелели. В них были книги, много журналов, разные необходимые вещи. Однажды привезли даже рояль, а потом и фортепьяно. Все посылки, вся почта шла на имя жен декабристов. Все они жили на одной улице, которая у жителей получила название «Дамской», теперешняя «Аянская».
Число декабристов, заключенных в Читинском остроге, несколько изменялось: вначале их было 84, потом осталось 70 человек. Первым отсюда выехал на поселение В. С. Толстой (14 мая 1827 года). 8 Января 1828 года увезли в Петербург (в крепость) А. О. Корниловича. В апреле 1828 года вышли на поселение 11 человек, осужденных по седьмому разряду; наконец 30 августа 1829 года выехал на поселение Ю. К. Люблинский.
3 Петровский завод
Читинские узники в количестве 71 человека прибыли в Петровский завод 22 и 23 сентября 1830 года.
«Наконец, увидели мы, — описывает Петровскозаводскую тюрьму Розен, — огромное строение, на высоком каменном фундаменте, о трёх фасадах. Множество кирпичных труб, наружные стены — всё без окон, только в середине переднего фаса было несколько окон у выдавшейся пристройки, где была караульная гауптвахта и единственный вход. Когда мы вошли, то увидели окна внутренних стен, крыльца и высокий частокол, разделяющий всё внутреннее пространство на восемь отдельных дворов; каждый двор имел свои особенные ворота; в каждом отделении по 5−6 арестантов. Каждое крыльцо вело в светлый коридор, шириною в четыре аршина. В нём, на расстоянии двух сажен дверь от двери, были входы в отдельные кельи. Каждая келья имела семь аршин длины и шесть аршин ширины. Все они были почти тёмные оттого, что свет получали из коридора через окно, прорубленное над дверью и забитое железною решёткой. Было так темно в этих комнатах, что днём нельзя было читать, нельзя было рассмотреть стрелки карманных часов. Днём позволяли отворять двери в коридор и в тёплое время занимались в коридоре. Но продолжительно ли бывает тепло? — в сентябре начинаются морозы и продолжаются до июня, и поэтому приходилось сидеть впотьмах, или круглый день со свечою».
Дамы подняли такую тревогу по поводу недостаточной освещённости помещений, что царское правительство было вынуждено уступить, и, наконец, было разрешено прорубить окна на улицу в каждой камере.

Декабристов два раза в день выводили на работы. Они ремонтировали дороги, рыли канавы для стока воды, так как почва была сырая и болотистая, выполняли и другие земельные работы. Вблизи каземата находился дом, приспособленный под мельницу. Зимой декабристов партиями вывозили сюда молоть на ручных жерновах муку. Вопреки сложившемуся мнению, декабристы на заводе не работали — их туда не допускали, боясь возможного влияния на рабочих. Лишь однажды, когда на заводе остановилась машина, в цех допустили Н. А. Бестужева и К. П. Торсона, которые её починили.
Также декабристы обрабатывали большой артельный огород, расположенный вблизи каземата и огороженный высокой оградой. На тюремном дворе имелся большой дом, в котором узники устроили мастерские: переплётную, столярную, слесарную, токарную. Здесь каждый из них занимался ремеслом в соответствии со своими желаниями и наклонностями.

Хотя окна в камерах и прорубили, они были небольшими и чуть ли не под потолком. Так как для чтения в камерах было чересчур темно, то поневоле ссыльным приходилось заниматься чем-нибудь другим. Преимущественно в это время декабристы и занимались различными ремёслами, которые были ими изучены.
Праздная жизнь, которую волею-неволею должны были вести в тюрьме декабристы, не удовлетворяла их. Появилась декабристская школа. «Долгих и многих трудов стояло нам, — пишет М. Бестужев, — уговорить старого коменданта — позволить учить детей, и таким образом, делая пользу, занять себя, и употребляя благодетельно время нас тяготившее. Постоянное «не могу» было ответом. Наконец, дело уладилось: придумали законную лазейку, так чтобы и волки сыты, и овцы целы. Он согласился на обучение детей церковному пению. Вследствие этого распоряжения, Свистунов и Крюков (Николай), отличные музыканты и певцы, составили прекрасный хор певчих. А так как нельзя петь, не зная грамоты, то разрешено учить читать (только). Мы с братом взяли на себя обучение, и дело пошло так хорошо, что многие дети горных чиновников поступали первыми в высшие классы Горного института и других заведений».
В 1839-ом году кончился срок заключения декабристов в каземате Петровского завода. Очень многие из них, осужденные на меньшие сроки, оставляли Петровскзаводскую тюрьму значительно ранее.
Декабристы, выходящие из тюрьмы по окончании срока заключения, отправлялись на поселение в различные места Сибири и получали там возможность входить в более близкое соприкосновение с местным населением.